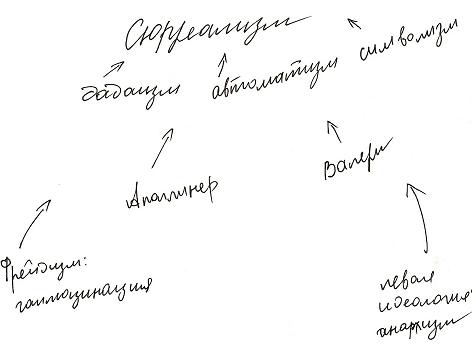"Я быть всегда самим собой старался, каков я есть: а впрочем, вот мой паспорт!"
Бла-бла-блаПисать пост про Э.-Э. Шмитта мне в очередной раз некогда: а потом, у меня все еще лежит на очереди его роман, который, боюсь, изменит мои представления о его мировоззрении (о как!) – ибо роман о Гитлере.
Но пока Шмитт удерживает свои позиции в числе моих любимых писателей. Во-первых, потому что посреди нашего депрессивного века, где бога нет, черта нет, смысла нет, и вообще, чего ни хватишься – ничего нет, он чуть ли не единственный сохраняет оптимистическое сознание (ибо Дютертр не оптимистичен, а наивен, а Эшноз – не оптимист, а пофигист, но сейчас речь не об этом). А во-вторых, по-моему, лучшее свидетельство состоятельности писателя – когда его творчество выходит за пределы его личности. А когда роман о Христе, написанный христианином, замечательным образом интегрируется в атеистическое сознание – это как раз тот случай.
Собственно, как раз о «неатеистическом» сознании и речь; а еще о том, что перевод у меня, как и следовало ожидать, не приняли.
О том, что я его сделала, я все равно не жалею – понравилось, но хотелось бы, чтоб мой труд все-таки принес пользу обществу: так что, может быть, со временем я пристрою его на какой-нибудь более подходящий сайт. А пока – читайте вы, вдруг кого заинтересует; другого перевода все равно нет))).
В первую очередь, впрочем, адресуюсь к тем, кто представляет себе «Евангелие от Пилата» (нижеприведенный текст, по сути – авторский комментарий к оному).
За сообщения о замеченных ошибках буду признательна.
Итак, E.-E. Schmitt "Journal d'un roman volé"
Итак, E.-E. Schmitt "Journal d'un roman volé"
Э.-Э. Шмитт
Семь лет работы вдруг испарились в руках взломщиков. Сигнализация погремела на всю улицу, никого не взволновав и не обеспокоив.
Стояло 4 января 2000 года, и для меня все рухнуло в одночасье.
С 1993 г., отвлекаясь только на пьесы, я воображал, обдумывал, шлифовал и писал эту книгу. Плоть от плоти. Разнообразные наброски и версии - все это хранилось в двух моих компьютерах. И ничего другого злоумышленники не взяли!
Или почти ничего...
Верх профессионализма: они украли еще чемодан с дискетами резервного сохранения...
Мне не оставили ничего...
Возможно ли, чтобы я не сохранил никаких заметок на бумаге? Боюсь, что так. В своем стремлении не захламлять письменный стол, я вполне мог выбрасывать листочки по мере того, как они накапливались.
Вывод: я не обладаю никакой печатной версией своей работы.
А если кто-нибудь опубликует мой роман под своим именем?
Чтобы успокоить меня, полицейские напоминают, что здесь все-таки Ирландия, где почти никто не читает по-французски, и, вероятнее всего, взломщиков не заинтересует содержимое компьютера. По их мнению, это дело рук банды, которая орудует в квартале уже три недели, и забирает из домов только носители информации.
- Они уже все стерли, - говорят они, чтобы меня утешить.
Эта фраза убивает меня во второй раз.
Во всех дублинских журналах, от самых шикарных до самых дешевых, Брюно М. помещает объявления с просьбой вернуть мои компьютеры, обещая не только избавление от преследований, но и, напротив, вознаграждение.
Боно, член группы U2, тоже недавно ограбленный, кажется, получил таким образом назад свои дискеты.
Однако я не пользуюсь популярностью рок-звезды...
Я чувствую, что Брюно М. не очень-то верит в успех этого предприятия, но хочет выказать мне сочувствие.
Вместо того чтобы поблагодарить его, я, как дурак, непрестанно спрашиваю: «Думаешь, сработает?»
На объявления никто не ответил, мне приходится признать: чей-то палец отправил мою книгу в небытие одним прикосновением к кнопке «delete».
После страшного урагана, который пронесся по Европе, приветствуя 2000 год, все вокруг оплакивают разрушенные дома, опустошенные леса, уничтоженные сады, вырванные с корнем деревья.
А я, я оплакиваю свое украденное произведение.
Сочувствие может принимать странные формы.
Вечером, решено: завтра утром я куплю пачку бумаги и перепишу, от руки, не останавливаясь, мою книгу - от первой страницы до последней.
Все прошло хорошо. Я переписал сцену в Гефсиманском саду. Она пришла легко, как никогда - наши воспоминания, - мои и Иешуа, - смешивались, чтобы воссоздать прошлое, сохраняя лишь самую его суть, изливаясь непривычно свободно, без сомнения благодаря тому, что мне оставалось только формулировать, не задумываясь, что я имел сказать.
Как я посмел писать от имени Иисуса? Атеисту это не доставило бы никаких неудобств, в то время как я, который обрел веру в Сахаре, и чья вера, по размышлении и по прошествии времени, может называться христианской, непрестанно перехожу грань дозволенного, посягаю на права, попираю священного персонажа Евангелий.
Я оправдываю эту дерзость конечной целью моей книги: показать живого, земного, близкого Иисуса, образ которого стерт вековыми предрассудками, слово которого теперь звучит лишь как избитый механически повторяемый припев, деяния которого застыли на картинах столь знакомых, что их больше не замечают, стоны, сомнения и доблесть которого забыты, задушены церковью, желающей, дабы наставить людей на путь истинный, явить им Бога, внушающего доверие, уверенного в себе, осознающего свое предназначение.
После двадцати веков шума, писаний, палимпсестов и ропота, люди больше ничего не слышат и не видят! Если спросить моих современников, Иисус - знаменитый незнакомец: он теперь ни Бог, ни человек! Он больше не Бог, потому что его низвели до исторической личности мудреца, просветителя, самозванца или жертвы - но признают, в лучшем случае, что он мог существовать. Он больше не человек, потому что, в своем желании верить и заставить поверить, люди религиозные чрезмерно сосредотачиваются на божественном характере, на мистических способностях персонажа.
В своей книге я хотел в первую очередь человека, потом, возможно, Бога…
Кроме того, сейчас меня увлекает описание Иешуа из Назарета, мальчишки, убежденного, как все любимые дети, что он бог, и обнаружившего у себя физическое несоответствие: он не умеет летать! Осознание человечности равно осознанию наших пределов: мы болеем, страдаем, мы однажды умрем, мы никогда не узнаем всего и наша власть над другими, равно как и над самими собой, сводима к трижды ничему. Если Иисус был человеком, он обнаружил это, он осознавал свою человечность.
Если подумать, забавно, что изначально любой из нас не прочь быть Богом.
Молчание Иисуса занимает меня не меньше, чем его слово.
Почему он молчал тридцать лет?
Сейчас я пишу именно об этой тишине.
В течение двух тысяч лет теологи рассуждают - но, собственно, это их работа, - о том, как осознавал себя сам Христос. Знали он с самого начала, что он сын Божий, или обнаружил это постепенно? Был ли его мессианский статус открыт ему в один прием, или он воспринял его с течением времени?
Четыре Евангелия, как мне кажется, дают предельно точный ответ на этот вопрос: Иисус был человеком, разумеется, вдохновляемым Богом, но не более чем человеком, вплоть до своей смерти на кресте. Иначе он бы не страдал. Иначе он бы не умер. Это Воскресение дарует ему в его земном существовании статус Бога.
Иисус не проявляет себя вплоть до 30 лет. Он живет обычной жизнью плотника, не покидая Назарета, ничем особенно не выделяясь и не собирая толп. Если бы он был изначально осведомлен о своей миссии, почему он так долго мешкал? Эта медлительность представляется мне доказательством того, что его мессианство открывалось ему лишь постепенно.
Этапы - опять же на основе Евангелий, - показались мне очевидными.
В первую очередь, это узнавание Иоанном Крестителем. Пророк распознает в паломнике Иисусе Мессию, которого он проповедует на протяжении многих лет.
Потрясенный, взволнованный, он сорок дней пропадает в пустыне. Что происходит с ним в эти сорок дней? Никто не знает, но очевидно, что эти сорок дней полностью его меняют: возвратившись в цивилизованный мир, он заговорил! Он наконец-то заговорил!
Но все же заговорить - не значит назвать себя. Он еще не объявляет себя Мессией. Когда его спрашивают, кто он, он молчит. Если собеседник настаивает, и уточняет «Ты - Мессия?», он неизменно отвечает: «Это ты сказал!».
Много лет я пытался постичь философский смысл этого высказывания. Мне казалось, что «Это ты сказал» явно выражает позицию Иисуса по отношению к верующим: «Ты сам, твоя душа и совесть, решаете, Мессия я или нет, ты решаешь, признавать ли меня богом или нет, ты свободен. Теперь помимо этой науки свободы, я вижу так же раздирающие его глубокие противоречия. Он спрашивает себя: Мессия ли я, по плечу ли мне это дело?
О сомнениях Иисуса церковь никогда не хотела говорить, стремясь, без сомнения, создать упрощенную версию для простых людей. Какая жалость! Они тут же забывают о храбрости Иисуса. Ведь разве существует храбрость без колебаний, храбрость без страха? Как можно забывать, что его последние слова на кресте – «Отче, для чего ты меня оставил?».
Первая часть моей книги построена на этой фразе, выражающей самым шокирующим образом человеческую природу Христа, на этом возгласе замешательства, над которым я не переставал размышлять годами.
Одна деталь вроде бы противоречит моим рассуждениям. Речь дет о небольшом отрывке из Луки (2:45-51), где Иисус, в возрасте 12 лет, во время поездки в Иерусалим, оставляет своих родителей, чтобы поспорить с учеными и жрецами Храма. Мария и Иосиф изумлены, но он отвечает: «Или вы не знали, что мне должно быть в том, что принадлежит Отцу Моему» Удивление показывает, что, в любом случае, они не ожидали такого ответа. Что отрицает возможность получения Марией и Иосифом «благих вестей». Короче говоря, это сводимо к банальной байке, применимой к любой истории о любом высшем предназначении.
Роль Марии…
Как бы я ее ни любил, я не отвожу ей важной роли. Поскольку, читая Евангелия, где она упомянута очень бегло, - насколько я помню, она произносит всего лишь четыре или пять фраз, - я, как и евангелисты, не испытываю потребности отводить ей существенное место. Возможно, это заденет некоторых читателей. Несомненно, это заденет двух моих бабушек, которых, как и многих французских девочек начала ХХ века, окрестили Мари…
В романе я не мог объяснить свои решения, поэтому я испытываю потребность отразить их в этих записках.
Для меня у Иисуса земная мать и земной отец. Он плод любви Марии и Иосифа. И, как у евангелистов Иоанна и Марка, у меня нет желания думать по-другому. Меня поражает воскрешение Иисуса, а не рождение.
Что касается Матфея и Луки, тексты которых порой похожи, как близнецы, они посчитали нужным добавить рассказ о Благовещении. Они заставили ангелов спуститься с небес и просветить Марию относительно судьбы ее сына. Зачем? Я вижу в этом попытку рассказчика достичь эффекта «откройте ваши уши пошире, сейчас я расскажу вам очень необычную историю». Таким образом краснобай пытается овладеть вниманием толпы, поменяв местами начало и конец, заставив предчувствовать развязку.
Между тем, тот, кто сразу заявляет тему, к которой мы должны прийти в заключение, представляется мне не только плохим литератором, но и плохим философом. Это придает рассказу характер легенды, - легенды, очень похожей на другие легенды, а этого, по-моему, как раз и следовало избегать!
С другой стороны, никто из евангелистов не уточняет, что происходит с Марией после смерти и воскрешения ее сына.
Более того, никто не описывает ее как вечную девственницу, поскольку у них с Иосифом были другие дети, дети, упомянутые во всех Евангелиях, Павлом и историком Иосифом Флавием, в том числе и Иаков, который, после исчезновения Иисуса, видимо, играл важную роль в первой христианской общине.
Роль, которую приписывают Марии, определенно является скорее продуктом истории христианства, а не Евангелий. С течением времени Церкви и Соборы прибавили множество представлений на ее счет: успение, вечная девственность, роль посредницы, и венчает список теория Непорочного Зачатия 1854 г. И, даже если я хорошо понимаю, что социальные и исторические преобразования в большей степени, чем религиозные, принудили власти прибавить то, о чем не написано и даже не упоминается в Евангелиях, меня это все же удивляет, чтобы не сказать шокирует. На мой взгляд, догмы должны даваться в откровении, а не выноситься на обсуждение. Как церковь могла создать новые догмы? Разве ее задача не заключается в том, чтобы просто сохранить существующие?
Так что я вижу Марию глазами Иисуса, с любовью, уважением, сочувствием, - женщиной, возможности которой, естественно, ограничены, которая не все понимает (Матфей 12: 46-50, Марк 3: 25-31, Лука 8: 19-21), которая страдает, но которая была первой, кто объяснил и показал ему, что значит любить.
Итог: Иисус рождается и умирает как человек. Это Воскресение делает его сыном Божьим.
За последние десять лет я прочел множество исторических работ, касающихся Иисуса, его процесса, повседневной жизни в Иерусалиме, политических и религиозных движениях в этой части света, даже медицинских трактатов о процедуре распятия. Помимо теологических рассуждений, я сосредоточился на трудах исследователей действительности. Поскольку Иисус исторический кажется мне столь же необходимым для христианства, как Иисус сын Божий. При противопоставлении человека Богу христианство рушится, потому что это значило бы пренебречь либо человеческой, либо божественной природой Христа.
Так что Ренан, на мой взгляд, создал труд не менее фундаментальный, чем Паскаль.
Написать «Я, Иешуа из Назарета»...
Каждый день, прежде чем взяться за перо, требуется странный ритуал, между молитвой и медитацией, руки лежат на столе, вес головы давит на затылок, глаза закрыты, чтобы лучше слышать, будто я собираюсь погрузиться, спуститься внутрь себя и отыскать там самое лучшее. В тишине, в дыму лавандовой ароматической свечи, я удаляюсь от этого мира, от его грязи, пытаюсь превратиться в огромное ухо. Порой тишина не отзывается. Я мягко настаиваю. Не важно, сколько уйдет времени - час или два, - мягкость - единственный способ достижения цели.
В глубине меня есть еще что-то кроме меня. Там меня ждут чувства, мысли, состояния, обычно не свойственные моему характеру. Чем порождено чудо, которое называют вдохновением? Личный опыт, сердце, которое больше ума, подсознание, которое богаче сознания? Или те другие, живые или мертвые, которые овладевают моим воображением, чтобы заговорить? Или это генетическая память человечества, наконец ставшая доступной? Или это прелюдия к ощущению взаимодействия с миром, вроде шестого чувства, все еще неизвестного науке? Или запечатленный божественный шепот? Мне кажется, возможны все варианты.
Чтобы Иисус заговорил прямо, голосом, который не дрожит, но которому знакомы сомнения, свободным от готовых формулировок, четко, но без философичности или интеллектуальности, я пытаюсь отлучиться от мира и особенно от самого себя. Стараясь погрузиться в глубину себя, чтобы найти все лучшее в себе, в глубину, которая уже не я и которая мне не принадлежит...
Не каждый день лучшее во мне, далеко не каждый...
Несколько строчек сегодня, небольшой прогресс.
Как простота требует не бездействия, но терпения...
Путешествия писателя - почти что паломничество святого Августина. Погрузиться в себя, чтобы обрести что-то помимо себя. Порой я нахожу и провожу вечер в созерцании. Так прошел сегодняшний день.
Сегодня вечером я счастлив.
И тем не менее я себя упрекаю: мой роман не продвинулся.
Хотя...
Очевидно, что, описывая пребывание Иисуса в пустыне, я опираюсь на свою собственную ночь в пустыне, когда, в феврале 1989 г., я вошел в Сахару атеистом и вышел верующим.
Собственно, только здесь я и пользуюсь личным опытом. Я пишу лишь то, что необходимо моей книге. Я все еще храню для себя ту ночь под звездами, изменившую мою жизнь.
Чудеса. Я знаю, что для кого-то они очень важны. Паскаль видел в них подтверждение истинности христианства.
Тем не менее, я стремился представить Иисуса столь же далеким от них, как философ
скептик, Иисуса, который читал Ренана! Ведь Иисус не был единственным чудотворцем своего времени, эпоха научной неопределенности, когда границе между нормальным и сверхъестественным недоставало как минимум четкости, кишмя кишела целителями. Кроме того, я думаю, что идея чуда не должна засорять современную веру; за исключением Воскресения, чудеса меня не интересуют. В конце концов, сам Иисус, что неоднократно упоминается в Евангелиях, раздражался, когда его просили о чуде с целью прекращения страданий. Временами мы понимаем, что он видит в этом опасное отклонение и подчеркивает, что вера должна предшествовать чуду, а не следовать из него.
Поправка относительно вчерашнего: меня интересуют только те чудеса, которые волновали Иисуса. То есть воскрешение ребенка в Наиме и Лазаря. В этом он видел подтверждение своей судьбы.
Иуда...
Здесь будет много неожиданностей.
Хотя я не первый писатель, переосмысливающий его роль, я думаю пойти дальше, чем кто бы то ни было.
Сегодня утром я позволил себе ложь, которая меня все еще радует.
Ришар Дюкуссэ, мой издатель, позвонил мне из Франции с одним из тех молниеносных немыслимых разговоров, где беспорядочные, изящные, витиеватые, иронические предположения следуют одно за другим, сплетая насмешки и теплоту, когда уже толком не знаешь, о чем речь, но испытываешь уверенность, что испытал удовольствие поделиться.
Неумолимо, как охотник, прикидывающийся, что просто гуляет, он приближается к точке, к которой намеревался прийти еще до начала.
- Итак, эта книга?
- Закончена. Но я ее тщательно вычитываю.
- Вам не кажется, что вы грешите излишней щепетильностью? Первая версия, которую я держал в руках несколько лет назад, по-моему, уже была хороша.
- Эта будет лучше.
- Позвольте мне об этом судить. Я жду уже семь лет.
- Я тоже. Поверьте, единственное, о чем я мечтаю - это увидеть ее напечатанной.
- Когда вы планируете ее предоставить?
Нисколько не смущаясь, я на ходу сочиняю ответ:
- 28 марта, в день моего рождения.
- Очень хорошо. Пока я включаю вас в программу публикаций.
Вешая трубку, я был в восторге. На мою книгу надеются. Более того: ее выход запланирован в сентябре.
Опьяненный, я забыл то, что осознал этим вечером: моя книга не закончена, не то что не вычитана; у меня не готова даже рукопись; я начинаю чувствовать себя усталым; я уже сейчас не сомневаюсь, что не буду готов к концу марта.
Единственный способ продолжать – не думать о завтрашнем дне. Сосредоточиться на сегодняшнем.
Я отказываюсь подсчитывать, сколько мне осталось написать: каждый вечер я пишу.
Но сколько я еще выдержу?
Мне не хотелось бы признавать роль, которую популярные представления о христианстве приписывают Иуде. Как меня глубоко трогает отречение Петра, так же и Иуда, низведенный до алчного предателя, меня шокирует. Как человек, который все бросил, чтобы последовать за Иисусом, который постоянно наблюдал его духовный рост и увеличение его аудитории, как человек, избранный в число двенадцати апостолов, двенадцати приближенных, двенадцати самых дорогих, как этот влюбленный в Иисуса мог прервать его полет в самом начале? Как, и, самое главное, зачем?
Быстро нашелся ответ «За тридцать сребреников», положивший начало христианскому антисемитизму, этой чудовищной непоколебимой идее, что за горсть золота еврей готов продать все, что угодно, антисемитизму, с легкостью забывшему, что Иисус ведь тоже еврей.
Тридцать сребреников, правда? Вообще-то, Иуда и так обладал деньгами, поскольку среди тех, кто бродил по дорогам вслед за Иисусом, он выполнял функцию казначея. Так что, еще тридцать сребреников... Если это была его единственная страсть, почему он присоединился к движению, которое как раз проповедовало бедность? Кроме того, если Иуда был столь алчным, почему на следующий день он повесился? На следующий день он должен был открыть банк, а уж точно не вешаться. Его самоубийство противоречит идее предательства.
Если бы еще Иуда покончил с собой после воскрешения Христа, я бы понял, что его замучили угрызения совести… поскольку он спровоцировал смерть Мессии. Но до того? Или ему невыносимо было видеть, как его друга арестовывают и распинают – притом, что он прекрасно знал, что его донос приведет к этой ситуации? Поистине предательство, которому недостает логики.
В ХХ веке многие авторы отмечали, что вмешательство Иуды было необходимо для завершения миссии Иисуса, некоторые готовы были признать, что он сознательно берет на себя роль зла, которое должно проявить себя, чтобы добро победило.
Иуда необходим Писанию, значит, Иуда оправдан, если не прощен.
Я предлагаю пойти еще дальше: Иуда жертвует своей репутацией, потому что он и есть тот знаменитый «любимый ученик», постоянно упоминаемый и ни разу не названный, ученик, который настолько верил в мессианство Иисуса из Назарета, что готов был ради него рискнуть всем.
Так я сегодня написал Тайную Вечерю. Во время последней трапезы, которую он разделяет со своими приближенными, он внял голову рассудка. Если он хочет избежать приговора и распятия для всех учеников, если он хочет избежать коллективной казни, он должен представить себя единственным ответственным. «Кто-то должен на меня донести».
Исподволь он просит Иуду, единственного достаточно близкого и достаточно проницательного, чтобы понять, взять это на себя.
Из любви, по убеждению, из преданности Иуда соглашается.
Уверенный в мессианстве Иисуса, он играет в глазах остальных нелицеприятную роль. Сломленный, потрясенный, и в то же время довольный, он уносит свой секрет в могилу.
Таки образом, христианство основано на двух жертвах: жертве Иуды и жертве Иисуса.
Почему Иешуа, а не Иисус? Иоханан Купальщик, а на Иоанн Креститель? Зачем возвращать арамейские имена на место тех, которые стали французскими через латынь и греческий? Не только ради аутентичности. Скорее чтобы избежать штампов, слишком простых образов, запрограммированного мировоззрения. И прежде всего чтобы сделать работу романиста возможной. Если я пишу «Мария», двадцать веков предрассудков встают между моим текстом и мной; вместо этого я пишу «Мириам», и я могу остаться в романе и контролировать представление о своих персонажах.
Еще хитрее, раз я говорю об Иегуде как о любимом ученике, пресвященные читатели сходу подумают, что речь идет об Иоанне, и только потом обнаружат, думаю, с удивлением, что речь идет об Иуде…
Я закончил сегодня первую часть книги, потрясенный, что она заканчивается так стремительно и, тем не менее, так жестоко.
Собираясь в подробностях нарисовать картину последних мгновений, которые предшествуют аресту и предвосхищают крест, я на удивление, свел к минимуму подробности, сохранив лишь суть, заключив в пространство одной фразы то, что могло бы развиваться на протяжении нескольких абзацев.
Коротко. Слишком коротко. Как жизнь Христа…
Почему точность всегда появляется у меня под конец? Это достоинство или свидетельство беспомощности?
От одного предложения меня пробирает дрожь сильнее, чем от целого абзаца. Эскиз картины волнует меня больше, чем законченное описание.
Сегодня, перечитав первую часть, которую я назвал бы «Гефсиманское Евангелие», я понимаю, что хотел бы увидеть этот отрывок вживую, во плоти, в присутствии, с тишиной, тенью и кровью. Здесь все устно. Эти фразы были не написаны, а услышаны, они скорее предназначены для того, чтобы их произносили, а не читали.
Прежде чем оставить эту первую часть, я отдаю себе отчет, что в ней больше оригинальности, чем я мог подумать вначале. Глубоко свободное сознание Иисуса-человека изменило сцены и перспективы.
Две тысячи лет спорили между собой две теории: Иисус, скрывающий в себе Мессию, и Иисус, открывающий для себя Мессию; я предлагаю третью: Иисус, поспоривший, что он Мессия.
«Если я проиграю, я ничего не теряю. Если я выиграю, я получаю все. Мы получаем все». Впечатление от написания этих строк, ощущение автора самого важного для моего интеллектуального становления, моего драгоценного Паскаля, протягивающего мне руку и помогающего мне завершить, по мере моих скромных сил, мой путь веры.
До самого конца мой Иисус остается разумом сомневающимся, ограниченным разумом, который чувствует зов разума бесконечного, но который ни в чем не уверен, свет естества, который питается светом откровения, но сохраняет человеческое мышление.
«Отче, почему ты оставил меня?» Божественный свет, который ослепляет нас, порой необратимо.
Сегодня первый день в компании Пилата. Какой удар! Перейти от мягкости Иисуса к грубости Пилата, от бесконечных вопросов к безапелляционным утверждениям! Это был зверский разрыв, покинуть свет, пусть и мучительный, Иисуса, ради этого солдафонского языка. Если я и не поплачусь за этот отказ, он заставляет сожалеть.
Тем не менее, я испытал огромное удовольствие от описания Иерусалима с точки зрения Пилата. В первой части я описал его глазами Иисуса. В обоих случаях, это город чарующий и ненавистный. Обожаю воскрешать мертвые города в свежих ощущениях.
Для Пилата эскиза недостаточно. Суть не имеет смысла. В Пилате нет ничего от Иисуса, ни чистоты его помыслов, ни широты его души, ни ясности выражений. Я должен изменить насыщенность моего письма, выбрать перо побольше и потолще. Выражаясь профессиональным языком, надо бы еще «добавить красок», сгустить реализм повествования, выделить описания, удлинить диалоги.
То есть здесь я приговорен проявлять себя «большим романистом» в традиционном смысле.
Как говорят живописцы, «сюжет диктует».
Создать Пилата…
Единственный способ очеловечить этого персонажа, который с самого начала должен быть уверенным, военным, прочно стоящим на своей позиции, закованным в броню, почти неприятным, было бы выявить его слабое место: безусловная любовь, которую он испытывает к своей жене. Единственное, что удивляет этого самоуверенного мужлана, - это решение Клавдии, аристократки, связать себя с ним. Он никогда не строил иллюзий на этот счет.
В конце книги он, разумеется, отправляется скорее по следам своей исчезнувшей супруги, чем на поиски Иисуса. Поскольку единственный путь к Христу – это любовь. Таким образом, к Пилату Иисус приходит через Клавдию.
Я люблю эту Клавдию, беспокойную, надменную, чувственную, непредсказуемую и загадочную. Она повергла меня к своим ногам. Я воспламенен ею так же, как Пилат.
Как все великие личности, Клавдию с тем же успехом можно найти и возвышенной, и нелепой.
Сегодня я закончил эпизод с Саломеей.
Это будет единственная существенная вольность в моей истории: я сделаю ее первой женщиной, которая видела воскресшего Иисуса. Почему? Во-первых, я не утверждаю, что это правда: принимать всерьез нужно последующих свидетелей, а не ее. Во-вторых, я настолько обожаю этого персонажа, что не смог отказать себе в удовольствии вывести ее: когда еще, в конце концов, я буду писать роман, действие которого разворачивается в Иерусалиме в I веке нашей эры? Наконец, я надеюсь застать врасплох тех, кто хорошо знает Писание, чтобы они не устраивались со всеми удобствами уже виденного и уже слышанного.
Фабиан: путает духовное и сверхъестественное. Маленький человек нашей маленькой эпохи.
Пилат, несмотря на свою грубость и неотесанность, герой философский. Он хочет спасти рациональное, и полагается только на свой рассудок. Инстинктивно он формулирует положения, которые Декарт излагает в Трактате о методе: столкнувшись с проблемой, проверять гипотезу до тех пор, пока она не обрушиться, побежденная, опровергнутая реальностью. Так и Пилат, столкнувшись с Воскресением, принимается за процедуру логического анализа. Сначала он отрицает самую возможность воскрешения: поскольку Иисус мертв, он думает о лжесвидетелях; потом о мистификации, организованной Иродом; потом о двойнике, выдающем себя за Иисуса. Наконец, когда все первоначальные гипотезы разрушены, Пилат, вынужденный признать, что Иисус действительно вернулся, заключает, что он жив, что он никогда не умирал на кресте. Он отрицает понятие воскрешения. Посоветовавшись со своим врачом, он приходит к выводу, что Иисусу не хватило бы нескольких часов, чтобы скончаться. В то же время сомнения врача, свидетельство Клавдии, его собственное пребывание в могиле вместе и Иосифом убеждают его, что Иисус был действительно мертв.
И, когда все рациональные гипотезы исчерпаны, Пилат оказывается лицом к лицу с тайной.
Что есть тайна? Совсем не то, что проблема или вопрос.
Вопрос – это требование информации, предполагающее ответ. Пример: в каком году была опубликовании Принцесса Клевская? Ответ: в 1678.
Проблема – это вопрос, предполагающий насколько ответов. Пример: в чем смысл жизни? Есть множество ответов на эту проблему, и ни один из них не является решением, не исчерпывает проблему, ни один из них не может претендовать на большее, чем быть одним из множества ответов.
Тайна – это проблема, которая взрывает границы разумного, которая уничтожает саму возможность задавать вопросы, истощает рациональность.
Два столпа христианства – это две тайны: Воплощение и Воскресение. Они сбивают с толку: Бог, который становится человеком, возвращение к жизни после кончины! Я понимаю, почему рациональный ум отворачивается от христианства.
В годы, когда я изучал философию, я отказывался принимать в расчет эти так называемые «тайны», которые представлялись мне интеллектуальными аберрациями, противоречием терминов, настоящими «растворимыми рыбами»*. Как истинный рационалист – как истинный Пилат! – я исключил все то, что мешало моему разуму и моему представлению о разуме.
Какая робость! Какое ограниченное суждение! Как будто рассудок – единственная составляющая ума и единственное ценное, что есть в уме…
Классические философы, более мудрые и менее самонадеянные, чем мы, различали разум природный (человеческое суждение) и разум ниспосланный (речи, сообщаемые через религию), не исключая, что может существовать смысл трансцендентальный, смысл сообщающийся, смысл за пределами единственного смысла, порожденного человеческим мозгом.
Таким образом, Пилат заканчивает свое расследование на пороге тайны. В отличие от Клавдии, он еще не верит. Он остается интеллектуалом, который отказывается уступить вере. В то же время он явно изменился, так как он признает, что в истории Иисуса что-то от него ускользает… Он больше не хочет сделать понятным то, что непостижимо, он слагает оружие разума…
Возможно, однажды он поверит…
Пилат – это мы. Клавдия – это я.
Чем дальше продвигается мое произведение, тем больше я утверждаю разрыв между моим «социальным Я» и «писательским Я». Человек, которым я являюсь в обществе, демонстрирует твердость в своих убеждениях; писатель, которого я открываю, отдаваясь вымыслу, непрестанно ставит свои убеждения под вопрос и под сомнение. Если во время разговора я четко отвечаю на некоторые вопросы, все снова становится сложным, как только я берусь за перо.
Всякому, кто прямо спросит меня, верю ли я, я отвечу так же прямо: да.
Зато, когда я пишу Посетителя или сейчас этот роман об Иисусе, это снова становится проблемой. Вместо того чтобы предоставить ответ, я углубляю вопрос. В самой глубине акта написания правит произведение, и я не хочу, чтобы оно было искажено моим ответом.
Я никогда не стремился стать заразным писателем, который перекладывает свои убеждения на читателей, писателем, который поучает, наставляет, привлекает к себе учеников. Как это было бы нечестно! Получать доход с эмоциональных вложений в роман или пьесу, чтобы манипулировать интеллектом публики, значит обеднять, отрицать свою свободу. В реальности у меня столь высокие идеи о моем читателе, что я изо всех сил стараюсь его уважать; таким образом, в моем тексте кроется другое измерение, и на месте уверенности появляются сомнения.
Писательство противится самоанализу.
Кратериос, философ-циник, меня в равной степени отталкивает и забавляет. Порой мне кажется, что он слишком далеко заходит в своих пошлых провокациях, и мне не стоит за ним следовать. Я убежден, что некоторые читатели упрекнут меня в этом, и я уже вижу негодующую гримасу моего отца.
Хоть бы они поняли, что, даже если я рассказываю сакральную историю, я не хочу зацикливаться на благостных персонажах. Жизнь должна присутствовать, во плоти, со всеми своими излишествами, клокотанием, капризами, уродствами, грубостью. Я не хочу рисовать в розовом цвете. Тем более такой сюжет.
Кроме того, я апеллирую к историческим реалиям. Философское движение «собак» достигло в то время несомненного успеха. Цинизм Кратериоса, возможно, увлек бы Средиземноморье, если бы не появилось христианство...
Кто убил Иисуса?
Власть и система.
Я исхожу не из этого. Мне приходилось слышать смехотворные споры в попытке определить виноватых: или римляне, или евреи! Приведем немного в прядок эти глупости.
Первые обвиняемые: евреи! Антисемитизм, этот вирус, который с течением истории непрестанно мутировал и менял форму, осмелился, в одном из своих проявлений, выдвинуть этот аргумент в свое оправдание: евреи убили Иисуса. Но тогда мы все евреи! Если история Иисуса - это история еврея в стране евреев, то он человек, ставший жертвой своих соотечественников, не более того. Поскольку его допрашивал и приговорил Синедрион, он был схвачен, как все мистики и свободолюбцы, организацией, которая не хотела, чтобы слышали еще какой-то голос, кроме ее собственного. Любая Церковь, как христианская, так и мусульманская, в свое время преследовала инакомыслящих, изобличала еретиков, отказываясь воспринимать другие идеи, особенно если они набирали силу. Здесь мы имеем дело с классическим рефлексом защиты могущественного института от отдельной личности, а не с чем-то специфически еврейским.
Вторые обвиняемые: римляне! Пилат, при таком раскладе, веками преподносится «палачом Христа». За этим обвинением чувствуется вздох облегчения Европы наконец-то христианской, которая ликует, оставив мир римский, а значит языческий, в античности. Я далек от того, чтобы реабилитировать этого персонажа, о котором немного известно: я пользуюсь им в той же степени, что он пользуется мной. Пилат реагирует как политик, как прагматик, обеспокоенный тем, чтобы избежать беспорядка, сохранить отношения с союзниками, которых он контролирует, в первую очередь с первосвященником. Он ведет себя не как римлянин, а как оккупант.
Друге суждение представляется мне незнанием прошлого, помноженным на дурные намерения в настоящем.
Тайна - это нечто, постоянно подающее повод к размышлению.
Сегодня 28 марта, день моего рождения, разносчики сменяют друг друга у моей двери: я завален букетами, как в день премьеры. Мой кабинет, где красуются тюльпаны, распускается сирень и томятся лилии, больше походит на гримерную артиста, чем на рабочее место писателя.
Чувство, что ты немного любим.
Среди всех этих цветов, которые происходят из Голландии, но которые мне присылают из Франции, меня особенно трогает огромная охапка роз. Мой издатель Ришар Дюкуссэ вспомнил обо мне.
Меня всегда волновал первый букет, который я получаю от человека. Краснея, немного волнуясь, с колотящимся сердцем, я звоню, чтобы его поблагодарить. Изысканная болтовня, беспорядочная и бессмысленная, мы жужжим как два шмеля в глубине сада. Потом переходим к сути:
- А ваша книга?
- Мне еще нужно ее перечитать.
- Вы ее уже семь лет перечитываете. Что происходит?
Я приукрашаю, я преуменьшаю, я выдумываю. Не в силах признать, что книгу у меня украли, боясь, что он не поверит, что я способен в конце концов восстановить ее, я убеждаю его, что это дело еще двух или трех недель.
Это мне позволит сказать то же самое через две или три недели...
На данный момент, никто еще ничего не читал.
Брюно М. наблюдает за моей работой со смешанным чувством. С одной стороны, он меня горячо поддерживает, поскольку он хочет отвадить меня от театра, прекрасно зная, что я не могу всего сказать на сцене. С другой, он, несомненно, предпочел бы, чтобы я писал другой роман.
Он принадлежит к людям, достаточно нечувствительным к вопросам веры и менее всего мучимым метафизикой... Я думаю, он терпит эту книгу в ожидании последующих.
Эта работа грозит превратить меня в романиста. Со времен моего первого романа, Секты эгоистов, который так и остался фарсом, скорее иронической философской сказкой, чем романом в традиционном смысле, я посвятил себя театру, без всяких сомнений относительно спонтанной формы выражения.
Откуда взялись эти комплексы, которые тянули меня назад все семь лет работы над романом?
В прозе такого рода мне трубно писать «четко». Не считая признанных историей шедевров, большая часть романов, которые попадали мне в руки, показалась мне беспринципной. Почему тот пишет четыреста страниц, в то время как сюжет и вдохновение, которое он дает автору, не заслуживает и двадцати? И почему этот предлагает всего лишь сто страниц, когда необходимо триста? У меня такое впечатление, что многие романисты (или притворяющиеся таковыми) не умеют регулировать ритмы своего письма: они не дают ни точного времени, ни точного содержания, необходимого их тексту. Если столь многие ошиблись, почему я должен избежать этого вселенского заблуждения?
Затем, я знаю, что я пишу только то, что слышу. Фразы слышатся мне со своими контурами, своим ритмом, своим дыханием, часто очень короткие, иногда более пространные, в зависимости от того, что они выражают и от их места в эпизоде, в абзаце. Кабинет, который Флобер называл своим «горлуаром», потому что он там выкрикивал свои тексты громким голосом, чтобы выверить их равновесие, мне надо бы называть «слухуаром», потому что я там прислушиваюсь к своему воображению. Устный писатель, произносящий свои тексты про себя, я считаю себя вправе предназначить их для сцены, где актеры вернут им голос. Напротив, мысль, что их будут читать в тишине спальни или в гомоне гостиной меня пугает: услышат ли их?
Одна нога в мистике, другая в рассудке.
Я редко читаю детективы, но читаю с большим увлечением: что-то от них осталось в моей книге. Так, мой Пилат ведет расследование, как американский частный детектив. В то же время, я играю со структурой детектива, но не следую ей. Детектив ставит вопрос, ответ на который существует, и, соответственно, заканчивается окончательным и определенным ответом. Евангелие от Пилата заканчивается не разгадкой тайны, а ее углублением.
Анти-детектив, в некотором роде…
Книга закончена. Я написал последнюю фразу, ту, которую знал еще до первой, с которой у меня уже несколько месяцев назначено свидание.
Завтра отправлюсь гулять на несколько часов. Нужно снова вдохнуть жизнь в тело, которое, когда я пишу, мне только за этим и нужно.
Брюно М. читает текст раньше всех.
Несмотря на то, что он всячески выражает восторг, я не знаю, нравится ли ему на самом деле.
На мой взгляд, он и сам этого не знает. Этот тяжкий груз, ответственность быть первым читателем, доводит до того, что начинаешь сомневаться в собственных суждениях.
Мои друзья Серж С. и Натали М. встречают роман с энтузиазмом. Они говорят мне такие прекрасные вещи, что у меня вдруг возникает впечатление, что жизнь удалась.
Спасибо.
Хочу вернуться к последним фразам книги: «Сегодня утром я сказал Клавдии, которая, представь только, считает себя христианкой, что будет только одно поколение христиан: то, которое видело воскресшего Иешуа. Эта вера угаснет вместе с ними, в первом поколении, когда закроют глаза последнего старика, который хранил в памяти лицо и голос живого Иешуа.
- Вот поэтому я никогда не стану христианином, Клавдия. Потому что я ничего не видел, я все пропустил, я пришел слишком поздно. Если бы я захотел поверить, мне пришлось бы сначала поверить свидетельствам других.
- Так может быть ты и есть первый христианин».
Такова жестокость христианства: после исчезновения Христа Откровение заканчивается.
Он и есть Откровение. В дальнейшем оно больше не проявит себя напрямую. Оно предполагает посредничество текстов, людей, которые их пишут, переписывают, переводят, комментируют. Христианство требует двойного доверия: веры в Бога и доверия человеку.
Считающий себя умнее и хитрее тех, кто ему предшествовал, не может стать христианином. Боюсь, как бы наша нарциссическая эпоха, которая тщеславно считает, что стоит больше всех предыдущих, не оказалась неблагоприятной для передачи послания. Без определенного смирения, без внимания к свидетельствам, без минимального уважения к верованиям прошлого нельзя понять Иисуса.
Христианству нужны наши жизни, чтобы жить, наша память, чтобы помнить.
Это общий и постоянно возобновляемый труд.
Драма в Альбэн Мишель.
Кажется, часть литературных консультантов сожалеет, что я не удовлетворился второй частью книги, той, где речь о Пилате. Я яростно оспариваю это замечание и впервые за время нашего знакомства обрушиваю свою ярость на Ришара Дюкуссэ. Хотя он тут же убеждает меня, что разделяет мое мнение, уже слишком поздно. Меня уже не остановить. Я ругаюсь без остановки. Я не опубликую эту книгу без обеих частей! Я отказываюсь! Это же смешно! Две загадки христианства – это Воплощение и Воскресение, то есть мои две части! Лучше сдохнуть и перестать писать! И вот, посреди “Closerie des lilas”*, у меня горят виски, вены на шее чуть не лопаются, я ощущаю себя на той ступени отчаяния, когда хочется свалиться на месте с сердечным приступом. Разумеется, я отдаю себе отчет, что устраиваю сцену, которую можно расценить как «истерическую», но вот, я уже не могу остановиться. Я прекращаю только потому, что, как всегда в тех редких случаях, когда я прихожу в ярость, мне отказывает голос, и вот, я окончательно охрип. Ришар Дюкоссэ использует эту возможность, чтобы меня успокоить и главным образом чтобы отвести меня домой.
Вечером мне становится стыдно перед ним, что я заставил его пережить такой неприятный момент, хотя в глубине души я по-прежнему считаю, что прав.
А потом, как смириться с тем, что читатели, которые думали об этом, только когда заполняли личную карточку, могут переосмыслить работу, над которой я сам думаю десять лет…
Эта книга доставила мне чудесное знакомство: с Пьером С. из Альбэн Мишель. Пожалуй, я бы его переименовал в «неожиданное»: я уж было решил, невозможно в современном издательство встретить человека, который читал что-то, кроме опубликованного в последние тридцать лет. Пьер С. читал Бернано, Мориака, Морана, Жида, Грина, классиков как нашего, так и предыдущих веков. С ним я могу говорить о Расине и Шекспире. Если я напеваю арию Моцарта, он подхватывает.
Я попросил, чтобы он был назначен моим литературным директором.
Пьер С. перечитывает мой текст и вылавливает то, что могло сохранить, помимо моей воли, слишком благостные образы, слишком пасторальные выражения, то, что могло бы напомнить о христианской вере как она обыкновенно преподносится.
Не знаю, поступает ли он так, потому что не разделяет этой веры, или потому что понял, чем должна быть эта книга. Без сомнения второй вариант.
Гранки вернулись из типографии.
Как всегда, точно и быстро, моя кузина Кристин, самая грозная охотница за ошибками в мире, помогла мне внести исправления.
Теперь надо только переждать лето в ожидании выхода книги.
В любом случае, ни на что другое я не годен, потому что устал, как женщина после родов.
Свои первые споры о Боге я вел с отцом. По этой причине я решил посвятить ему свою книгу.
Сколько мне было? Семь лет, восемь?.. Хотя я смутно помню это, он дал меня почувствовать, что наша жизнь разворачивается в окружении глубокой тайны. Думаю, он скорее задавал себе вопросы в моем присутствии, чем отвечал мне.
Если он и не сказал мне этого открытым текстом в детстве, позже я понял, что он не верил в Бога и держал христианство на расстоянии, испытывая к нему смесь уважения и недоверия. Его антихристианство было подлинным, но его атеизм оставался беспокойным, напряженным, мучительным: он хотел бы иметь веру. И именно потому, что он желает верить, он презирает это желание. Порочный круг и движение по спирали: само его желание вселяет в него подозрения относительно объекта этого желания.
Не верить ему было тем мучительнее, что его мать Мари, моя дорогая эльзасская бабушка, была глубоко верующей католичкой, истово соблюдающей религиозные обряды, которая, кротко и упорно, единственная из всего семейства Шмиттов ходила в церковь по воскресеньям. Мой отец, должно быть, чувствовал себя виноватым, воображая, что она страдала, хотя никогда и слова не сказала, от того, что не передала свою веру своим четверым детям. Но как переходит вера? Никто не знает. Он не более виноват в том, что не воспринял ее, чем она в том, что ее не передала.
Моя очередь передать ему мои вопросы, мои надежды, мои волнения. Я переверну обычную ситуацию передачи: верующий сын направляет веру своему неверующему отцу.
Мой отец со страстью проглотил мои две части. Как и ожидалось, он никак не комментирует посвящение: для этого он слишком скромен.
Тем не менее моя мать признается, что он целыми днями читает и перечитывает страницы, разбросанные по его кровати.
Сегодня утором я осознал, что меня зовут Эмманюэль, что означает «С нами Бог» на иврите. Не говорит ли Матфей, что ребенка Марии должны звать Еммануил? (Матфей 1:23)? Странно писать новые евангелия, правда?
Еще более странны обстоятельства, при которых мне было дано это имя. Пока я был в утробе матери, мои родители предполагали назвать меня Эриком. Когда я появился, им вдруг показалось, что Эрика недостаточно, что Эрик Шмитт звучит неправильно, недостаточно тепло и отсылает к другой внешности, нежели моя, и вот, когда на столе, окруженный акушерками, я впервые взглянул на этот мир, они изобрели это невероятное имя, которое я больше ни у кого не встречал: Эрик-Эмманюэль.
Отдавали ли они себе отчет в том, что делали?
Остался ли смысл этого имени для них тайной, или они держали его в голове? Не знаю. Я полагаю, что в них заговорил язык подсознания, подсознания, обладающего большим словарным запасом, чем мы, подсознания виртуозного в вопросах полисемии, которое сумело предложить слово, звук которого, по неизвестным причинам, показался правильным.
Лица некоторых, когда они понимают, что я, в некотором роде, христианин: катастрофические физиономии, осунувшиеся мины. Я их разочаровал. Я упал в их глазах.
Меня это забавляет.
Несколько гримас – это не львы, пожирающие христиан в древних цирках.
Если наш век и знал великий прогресс, то это прогресс незначительности.
Сегодня книга поступила в продажу. Что не означает, что кто-то ее купит.
Ее покупают. Мой издатель удивлен. Менее, чем я.
Счастье знать, что книга хорошо принята и нашла множество читателей. Счастье чудесных встреч в чудесных полных залах.
До публикации этой книги мне представлялось, что я единственный писатель, сталкивающийся с такого рода проблемами: взвесить христианство, оценить его вклад, его интерес, его тайну. Теперь, в процессе «литературного возвращения», выражение, где оба термина, вне всякого сомнения, узурпированы, это ощущение подтверждается. Вопреки моей подруге Амели Нотомб, которая принимает книгу с большим уважением и красноречивыми похвалами, я, несмотря на положительные отзывы критиков, чувствую себя гадким утенком.
Когда я признаюсь, что верю, некоторые смотрят на меня так, будто я сказал что-то в высшей степени непристойное. Или неуместное. Я превращаюсь в кретина или в человека-невидимку. В любом случае, это признание их мгновенно убеждает, что я непременно плохой романист и самозваный философ…
Взамен я делю этот поиск, это беспокойство разума с множеством читателей, верующих или нет, и чувство одиночества покидает меня. Атеисты и христиане реагируют с силой и интересом. Читатели не столь метафизически настроенные последовали за мной из чистого любопытства.
В конце концов, каждый идет своим путем и по-настоящему не встречается ни с кем, кроме бредущего той же тропинкой…
Пресса хорошая. Многие мне аплодировали, двое или трое растерзали, остальные удачно прошли мимо. Меня ничего по-настоящему не задевает. Я чувствую себя как оправившийся от болезни, который слышит вокруг неясные голоса и различает колышущиеся тени: чуть живой посреди ускользающего мира.
Некто очень сердитый и очень красный негодует, как можно посреди XXI века все еще спрашивать себя, существовал ли Иисус и был ли он Сыном Божьим. Чушь, - восклицает он. С точки зрения этого крайне самоуверенного человека, глупо уже задавать такой вопрос.
Я молчу. Я не отвечаю, боясь его задеть.
Он считает себя умным, в то время как только что доказал нам свою тупость.
Он воображает себя современным, прогрессивным, в то время как он пышет нетерпимостью, впадает в опасный, как любой другой фундаментализм, фундаментализм атеистический, фанатическую доктрину тех, кто мнит себя выше других, не щадя никого и ничего.
С его точки зрения, все верующие - слабоумные. А он, ни во что не верящий, живет истиной. Ему не приходила в голову мысль, что он довольствуется противопоставлением одного убеждения другому, одной веры другой вере.
Единственное умное и честное отношение к вопросу о существовании Бога или Христа состоит в том, чтобы сказать «Я не знаю».
Сказать «Я верю» не значит сказать «Я знаю».
Сказать «Я не верю» тоже не значит «Я знаю, что это не так». С точки зрения истины, неверие во что-то не сообщает дополнительных достоинств.
Будем скромны в оценках. Вера атеистическая или вера христианская - все равно вера. Ни в коем случае не наука. И то, и другое заслуживает уважения, как и любое убеждение.
Мой собеседник с пунцовым от ярости лицом отвечает столь рьяно на вопросы, которых он себе даже не задавал.
Пусть сначала задаст.
А потом, ответ не имеет значения. Важен вопрос.
Вопрос нас объединяет, ответы - разделяют.
Гуманизм должен быть вопросительным, под угрозой того, чтобы вообще перестать существовать.
С юности меня преследует образ: я вижу себя, облаченного в длинные черные одежды, в ослепительной белизны монастырской келье, смотрящим на чистый свет дня, наполняющий меня счастьем. Всегда это монашеская мечта. Она овладела мной даже прежде, чем я обрел веру.
Что это - галлюцинация или предчувствие? Нахожусь ли я во власти смутного желания или предвижу свою судьбу? Поживем - увидим. И все же, если я осуществлю эту мечту, будет это проявлением моей свободы или моей судьбы?
Порой я подозреваю, что этот образ выражает лишь усталость от жизни и борьбы. А в другие минуты мне представляется, что это и есть ключ к моей жизни, к ожидающему меня счастью...
Вопреки тому, что я говорил несколько недель назад, чем дальше, тем менее исключительным я себя чувствую. Я ощущаю себя звеном огромной цепи, состоящей из художников, которые на протяжении многих веков представляли Страсти. Как живописец, скульптор, композитор, где-то между церковным маляром и Рембрандтом, безымянным портным и Микеланджело, воскресным органистом и Моцартом, я разрабатываю мотив на свой лад.
Мой роман, мне кажется, занимает заслуженное место в этой истории. Защищенный жанром, защищенный признанием вымышленности, я не ошарашиваю читателя, заявляя ему «Это правда», лишь «Это правдоподобно».
Я не кричу, «Вот ИСТИНА», лишь «Вот мои предположения». Мои мысли предстают в форме лжи: вымысел. Только у вымысла, возможно, есть сила сказать то, что здесь необходимо сказать.
Разумеется, «роман» означает субъективное, вымышленное, но это не означает ни нереальное, ни лишенное смысла. Есть реалии, которые не могут быть переданы другим языком. Я спрашиваю себя, а что если определенные истины невыразимы кроме как в форме историй, романов, сказок...
Пятое евангелие?
Да, я написал свое евангелие, двойное евангелие, от Иешуа и от Пилата. Но не проделали ли мы все, даже не взявшись за перо, такую же работу? Поневоле, заваленные информацией, текстами, образами, мы пересказывали историю, выделяя какую-то черту, предпочитая какую-то сцену, упуская какую-то деталь. Все вместе, с музыкой, картинами, текстами, фильмами, мы создали себе пятое евангелие.
Я вспоминаю ночь, из которой вышла эта книга. Речь не столько о моей ночи в пустыне, сколько о другой, несколькими годами позже.
В тот вечер, впервые в жизни, я прочел Евангелия. Все четыре. Подряд. Не отрываясь. В том порядке, в каком они опубликованы.
Ночь льда и огня. Противоречивые чувства. Я открывал Христа, ярость любви, безумную, бессмысленную великодушную траекторию, по которой он следовал, от покрытого тайной детства к публичной агонии. В ту самую ночь я начал верить в Христа и не верить в него. Я непрестанно сомневался.
Несовпадение четырех текстов, их очень разное качество, даже их противоречия одновременно взволновали и околдовали меня. С точки зрения судебного процесса, припомнил я, тот факт, что тексты не согласуются между собой, доказывает, как правило, искренность свидетелей. Только лжесвидетели рассказывают в точности ту же историю. Точно так же в психиатрии известно, что пациент, ставший жертвой насилия, никогда не будет рассказывать об акте агрессии одинаково, в то время как лжец повторит все слово в слово. Короче, трудности, которые доставили мне несовпадающие тексты Евангелий, побудили меня им поверить.
С того вечера я стал одержим фигурой Христа. Несколько лет спустя я решил назвать эту одержимость моим христианством.
Есть слова, которые обжигают. Чтобы написать «Я, Иешуа из Назарета», мне потребовались годы размышлений, прежде чем рискнуть преступить эту черту. Для атеиста это не составило бы проблемы; для еврея или мусульманина – несколько легко преодолимых сомнений; в христианина перспектива говорить от имени того, кого он считает Господом всемогущим, вселяет ужас, потому что граничит со святотатством.
Без сомнения именно поэтому я постоянно отказывался, откладывал эту работу. Не из страха перед романом. Но из страха перед этим романом.
Несколько раз друзья, которым я признался, что «Евангелие от Пилата» было украдено у меня за несколько месяцев до появления в печати, спрашивали меня, считаю ли я, что новая версия лучше. Я искренне отвечал, что надеюсь, но никогда этого не узнаю.
Сегодня я мог бы получить ответ.
Пока я снимаю гирлянды и шарики с рождественской елки, дети, Сибиль и Кэнтен, пользуются этим долгим моментом, проведенным за смехом и болтовней, чтобы расспросить меня о секретах моего секретера с инкрустацией голландской работы, датирующегося XVIII веком. Не в силах больше противостоять их любопытству, я подвожу их к секретеру и привожу в действие пружины тайника.
Ящик выскакивает, и я с удивлением обнаруживаю, что в нем что-то лежит. Я вытаскиваю предмет: это оказывается дискета с этикеткой «Евангелие от Пилата, первая и вторая часть».
Ошарашенный, я вынужден сесть. Итак, роман, который я считал безвозвратно потерянным, роман, который я переписал, растратив нервы и здоровье, роман, который отныне продолжит свою карьеру в книжных магазинах, этот украденный роман месяцами ждал меня в единственном месте, где он мог быть.
Дети смеются. Но не я. Я обливаюсь потом. Я злюсь на себя. Я обвиняю себя в том, что оказался достаточно безголовым, чтобы переписывать книгу, не заглянув в этот потайной ящик.
Сибиль и Кэнтен разбегаются по дому, чтобы поведать всем новость. Полагаю, что мой обескураженный вид сам по себе должен быть весьма забавен.
Брюно М. приезжает, с трудом сдерживает смех при виде моей бледности, потом пытается придумать что-нибудь позитивное:
- Вот и хорошо. Ты сможешь сравнить две версии, теперь… Узнаешь, какая лучше…
Я поднимаю голову, пристально смотрю на него и бормочу:
- Никогда!
Я направляюсь к камину и швыряю в огонь дискету, которая сначала сопротивляется, потом корчится от боли, трещит, чернеет, воняет и в конце концов исчезает под развалившимися поленьями.
Но пока Шмитт удерживает свои позиции в числе моих любимых писателей. Во-первых, потому что посреди нашего депрессивного века, где бога нет, черта нет, смысла нет, и вообще, чего ни хватишься – ничего нет, он чуть ли не единственный сохраняет оптимистическое сознание (ибо Дютертр не оптимистичен, а наивен, а Эшноз – не оптимист, а пофигист, но сейчас речь не об этом). А во-вторых, по-моему, лучшее свидетельство состоятельности писателя – когда его творчество выходит за пределы его личности. А когда роман о Христе, написанный христианином, замечательным образом интегрируется в атеистическое сознание – это как раз тот случай.
Собственно, как раз о «неатеистическом» сознании и речь; а еще о том, что перевод у меня, как и следовало ожидать, не приняли.
О том, что я его сделала, я все равно не жалею – понравилось, но хотелось бы, чтоб мой труд все-таки принес пользу обществу: так что, может быть, со временем я пристрою его на какой-нибудь более подходящий сайт. А пока – читайте вы, вдруг кого заинтересует; другого перевода все равно нет))).
В первую очередь, впрочем, адресуюсь к тем, кто представляет себе «Евангелие от Пилата» (нижеприведенный текст, по сути – авторский комментарий к оному).
За сообщения о замеченных ошибках буду признательна.
Итак, E.-E. Schmitt "Journal d'un roman volé"
Итак, E.-E. Schmitt "Journal d'un roman volé"
Э.-Э. Шмитт
Заметки об украденном романе
Семь лет работы вдруг испарились в руках взломщиков. Сигнализация погремела на всю улицу, никого не взволновав и не обеспокоив.
Стояло 4 января 2000 года, и для меня все рухнуло в одночасье.
С 1993 г., отвлекаясь только на пьесы, я воображал, обдумывал, шлифовал и писал эту книгу. Плоть от плоти. Разнообразные наброски и версии - все это хранилось в двух моих компьютерах. И ничего другого злоумышленники не взяли!
Или почти ничего...
Верх профессионализма: они украли еще чемодан с дискетами резервного сохранения...
Мне не оставили ничего...
Возможно ли, чтобы я не сохранил никаких заметок на бумаге? Боюсь, что так. В своем стремлении не захламлять письменный стол, я вполне мог выбрасывать листочки по мере того, как они накапливались.
Вывод: я не обладаю никакой печатной версией своей работы.
А если кто-нибудь опубликует мой роман под своим именем?
Чтобы успокоить меня, полицейские напоминают, что здесь все-таки Ирландия, где почти никто не читает по-французски, и, вероятнее всего, взломщиков не заинтересует содержимое компьютера. По их мнению, это дело рук банды, которая орудует в квартале уже три недели, и забирает из домов только носители информации.
- Они уже все стерли, - говорят они, чтобы меня утешить.
Эта фраза убивает меня во второй раз.
Во всех дублинских журналах, от самых шикарных до самых дешевых, Брюно М. помещает объявления с просьбой вернуть мои компьютеры, обещая не только избавление от преследований, но и, напротив, вознаграждение.
Боно, член группы U2, тоже недавно ограбленный, кажется, получил таким образом назад свои дискеты.
Однако я не пользуюсь популярностью рок-звезды...
Я чувствую, что Брюно М. не очень-то верит в успех этого предприятия, но хочет выказать мне сочувствие.
Вместо того чтобы поблагодарить его, я, как дурак, непрестанно спрашиваю: «Думаешь, сработает?»
На объявления никто не ответил, мне приходится признать: чей-то палец отправил мою книгу в небытие одним прикосновением к кнопке «delete».
После страшного урагана, который пронесся по Европе, приветствуя 2000 год, все вокруг оплакивают разрушенные дома, опустошенные леса, уничтоженные сады, вырванные с корнем деревья.
А я, я оплакиваю свое украденное произведение.
Сочувствие может принимать странные формы.
Вечером, решено: завтра утром я куплю пачку бумаги и перепишу, от руки, не останавливаясь, мою книгу - от первой страницы до последней.
Все прошло хорошо. Я переписал сцену в Гефсиманском саду. Она пришла легко, как никогда - наши воспоминания, - мои и Иешуа, - смешивались, чтобы воссоздать прошлое, сохраняя лишь самую его суть, изливаясь непривычно свободно, без сомнения благодаря тому, что мне оставалось только формулировать, не задумываясь, что я имел сказать.
Как я посмел писать от имени Иисуса? Атеисту это не доставило бы никаких неудобств, в то время как я, который обрел веру в Сахаре, и чья вера, по размышлении и по прошествии времени, может называться христианской, непрестанно перехожу грань дозволенного, посягаю на права, попираю священного персонажа Евангелий.
Я оправдываю эту дерзость конечной целью моей книги: показать живого, земного, близкого Иисуса, образ которого стерт вековыми предрассудками, слово которого теперь звучит лишь как избитый механически повторяемый припев, деяния которого застыли на картинах столь знакомых, что их больше не замечают, стоны, сомнения и доблесть которого забыты, задушены церковью, желающей, дабы наставить людей на путь истинный, явить им Бога, внушающего доверие, уверенного в себе, осознающего свое предназначение.
После двадцати веков шума, писаний, палимпсестов и ропота, люди больше ничего не слышат и не видят! Если спросить моих современников, Иисус - знаменитый незнакомец: он теперь ни Бог, ни человек! Он больше не Бог, потому что его низвели до исторической личности мудреца, просветителя, самозванца или жертвы - но признают, в лучшем случае, что он мог существовать. Он больше не человек, потому что, в своем желании верить и заставить поверить, люди религиозные чрезмерно сосредотачиваются на божественном характере, на мистических способностях персонажа.
В своей книге я хотел в первую очередь человека, потом, возможно, Бога…
Кроме того, сейчас меня увлекает описание Иешуа из Назарета, мальчишки, убежденного, как все любимые дети, что он бог, и обнаружившего у себя физическое несоответствие: он не умеет летать! Осознание человечности равно осознанию наших пределов: мы болеем, страдаем, мы однажды умрем, мы никогда не узнаем всего и наша власть над другими, равно как и над самими собой, сводима к трижды ничему. Если Иисус был человеком, он обнаружил это, он осознавал свою человечность.
Если подумать, забавно, что изначально любой из нас не прочь быть Богом.
Молчание Иисуса занимает меня не меньше, чем его слово.
Почему он молчал тридцать лет?
Сейчас я пишу именно об этой тишине.
В течение двух тысяч лет теологи рассуждают - но, собственно, это их работа, - о том, как осознавал себя сам Христос. Знали он с самого начала, что он сын Божий, или обнаружил это постепенно? Был ли его мессианский статус открыт ему в один прием, или он воспринял его с течением времени?
Четыре Евангелия, как мне кажется, дают предельно точный ответ на этот вопрос: Иисус был человеком, разумеется, вдохновляемым Богом, но не более чем человеком, вплоть до своей смерти на кресте. Иначе он бы не страдал. Иначе он бы не умер. Это Воскресение дарует ему в его земном существовании статус Бога.
Иисус не проявляет себя вплоть до 30 лет. Он живет обычной жизнью плотника, не покидая Назарета, ничем особенно не выделяясь и не собирая толп. Если бы он был изначально осведомлен о своей миссии, почему он так долго мешкал? Эта медлительность представляется мне доказательством того, что его мессианство открывалось ему лишь постепенно.
Этапы - опять же на основе Евангелий, - показались мне очевидными.
В первую очередь, это узнавание Иоанном Крестителем. Пророк распознает в паломнике Иисусе Мессию, которого он проповедует на протяжении многих лет.
Потрясенный, взволнованный, он сорок дней пропадает в пустыне. Что происходит с ним в эти сорок дней? Никто не знает, но очевидно, что эти сорок дней полностью его меняют: возвратившись в цивилизованный мир, он заговорил! Он наконец-то заговорил!
Но все же заговорить - не значит назвать себя. Он еще не объявляет себя Мессией. Когда его спрашивают, кто он, он молчит. Если собеседник настаивает, и уточняет «Ты - Мессия?», он неизменно отвечает: «Это ты сказал!».
Много лет я пытался постичь философский смысл этого высказывания. Мне казалось, что «Это ты сказал» явно выражает позицию Иисуса по отношению к верующим: «Ты сам, твоя душа и совесть, решаете, Мессия я или нет, ты решаешь, признавать ли меня богом или нет, ты свободен. Теперь помимо этой науки свободы, я вижу так же раздирающие его глубокие противоречия. Он спрашивает себя: Мессия ли я, по плечу ли мне это дело?
О сомнениях Иисуса церковь никогда не хотела говорить, стремясь, без сомнения, создать упрощенную версию для простых людей. Какая жалость! Они тут же забывают о храбрости Иисуса. Ведь разве существует храбрость без колебаний, храбрость без страха? Как можно забывать, что его последние слова на кресте – «Отче, для чего ты меня оставил?».
Первая часть моей книги построена на этой фразе, выражающей самым шокирующим образом человеческую природу Христа, на этом возгласе замешательства, над которым я не переставал размышлять годами.
Одна деталь вроде бы противоречит моим рассуждениям. Речь дет о небольшом отрывке из Луки (2:45-51), где Иисус, в возрасте 12 лет, во время поездки в Иерусалим, оставляет своих родителей, чтобы поспорить с учеными и жрецами Храма. Мария и Иосиф изумлены, но он отвечает: «Или вы не знали, что мне должно быть в том, что принадлежит Отцу Моему» Удивление показывает, что, в любом случае, они не ожидали такого ответа. Что отрицает возможность получения Марией и Иосифом «благих вестей». Короче говоря, это сводимо к банальной байке, применимой к любой истории о любом высшем предназначении.
Роль Марии…
Как бы я ее ни любил, я не отвожу ей важной роли. Поскольку, читая Евангелия, где она упомянута очень бегло, - насколько я помню, она произносит всего лишь четыре или пять фраз, - я, как и евангелисты, не испытываю потребности отводить ей существенное место. Возможно, это заденет некоторых читателей. Несомненно, это заденет двух моих бабушек, которых, как и многих французских девочек начала ХХ века, окрестили Мари…
В романе я не мог объяснить свои решения, поэтому я испытываю потребность отразить их в этих записках.
Для меня у Иисуса земная мать и земной отец. Он плод любви Марии и Иосифа. И, как у евангелистов Иоанна и Марка, у меня нет желания думать по-другому. Меня поражает воскрешение Иисуса, а не рождение.
Что касается Матфея и Луки, тексты которых порой похожи, как близнецы, они посчитали нужным добавить рассказ о Благовещении. Они заставили ангелов спуститься с небес и просветить Марию относительно судьбы ее сына. Зачем? Я вижу в этом попытку рассказчика достичь эффекта «откройте ваши уши пошире, сейчас я расскажу вам очень необычную историю». Таким образом краснобай пытается овладеть вниманием толпы, поменяв местами начало и конец, заставив предчувствовать развязку.
Между тем, тот, кто сразу заявляет тему, к которой мы должны прийти в заключение, представляется мне не только плохим литератором, но и плохим философом. Это придает рассказу характер легенды, - легенды, очень похожей на другие легенды, а этого, по-моему, как раз и следовало избегать!
С другой стороны, никто из евангелистов не уточняет, что происходит с Марией после смерти и воскрешения ее сына.
Более того, никто не описывает ее как вечную девственницу, поскольку у них с Иосифом были другие дети, дети, упомянутые во всех Евангелиях, Павлом и историком Иосифом Флавием, в том числе и Иаков, который, после исчезновения Иисуса, видимо, играл важную роль в первой христианской общине.
Роль, которую приписывают Марии, определенно является скорее продуктом истории христианства, а не Евангелий. С течением времени Церкви и Соборы прибавили множество представлений на ее счет: успение, вечная девственность, роль посредницы, и венчает список теория Непорочного Зачатия 1854 г. И, даже если я хорошо понимаю, что социальные и исторические преобразования в большей степени, чем религиозные, принудили власти прибавить то, о чем не написано и даже не упоминается в Евангелиях, меня это все же удивляет, чтобы не сказать шокирует. На мой взгляд, догмы должны даваться в откровении, а не выноситься на обсуждение. Как церковь могла создать новые догмы? Разве ее задача не заключается в том, чтобы просто сохранить существующие?
Так что я вижу Марию глазами Иисуса, с любовью, уважением, сочувствием, - женщиной, возможности которой, естественно, ограничены, которая не все понимает (Матфей 12: 46-50, Марк 3: 25-31, Лука 8: 19-21), которая страдает, но которая была первой, кто объяснил и показал ему, что значит любить.
Итог: Иисус рождается и умирает как человек. Это Воскресение делает его сыном Божьим.
За последние десять лет я прочел множество исторических работ, касающихся Иисуса, его процесса, повседневной жизни в Иерусалиме, политических и религиозных движениях в этой части света, даже медицинских трактатов о процедуре распятия. Помимо теологических рассуждений, я сосредоточился на трудах исследователей действительности. Поскольку Иисус исторический кажется мне столь же необходимым для христианства, как Иисус сын Божий. При противопоставлении человека Богу христианство рушится, потому что это значило бы пренебречь либо человеческой, либо божественной природой Христа.
Так что Ренан, на мой взгляд, создал труд не менее фундаментальный, чем Паскаль.
Написать «Я, Иешуа из Назарета»...
Каждый день, прежде чем взяться за перо, требуется странный ритуал, между молитвой и медитацией, руки лежат на столе, вес головы давит на затылок, глаза закрыты, чтобы лучше слышать, будто я собираюсь погрузиться, спуститься внутрь себя и отыскать там самое лучшее. В тишине, в дыму лавандовой ароматической свечи, я удаляюсь от этого мира, от его грязи, пытаюсь превратиться в огромное ухо. Порой тишина не отзывается. Я мягко настаиваю. Не важно, сколько уйдет времени - час или два, - мягкость - единственный способ достижения цели.
В глубине меня есть еще что-то кроме меня. Там меня ждут чувства, мысли, состояния, обычно не свойственные моему характеру. Чем порождено чудо, которое называют вдохновением? Личный опыт, сердце, которое больше ума, подсознание, которое богаче сознания? Или те другие, живые или мертвые, которые овладевают моим воображением, чтобы заговорить? Или это генетическая память человечества, наконец ставшая доступной? Или это прелюдия к ощущению взаимодействия с миром, вроде шестого чувства, все еще неизвестного науке? Или запечатленный божественный шепот? Мне кажется, возможны все варианты.
Чтобы Иисус заговорил прямо, голосом, который не дрожит, но которому знакомы сомнения, свободным от готовых формулировок, четко, но без философичности или интеллектуальности, я пытаюсь отлучиться от мира и особенно от самого себя. Стараясь погрузиться в глубину себя, чтобы найти все лучшее в себе, в глубину, которая уже не я и которая мне не принадлежит...
Не каждый день лучшее во мне, далеко не каждый...
Несколько строчек сегодня, небольшой прогресс.
Как простота требует не бездействия, но терпения...
Путешествия писателя - почти что паломничество святого Августина. Погрузиться в себя, чтобы обрести что-то помимо себя. Порой я нахожу и провожу вечер в созерцании. Так прошел сегодняшний день.
Сегодня вечером я счастлив.
И тем не менее я себя упрекаю: мой роман не продвинулся.
Хотя...
Очевидно, что, описывая пребывание Иисуса в пустыне, я опираюсь на свою собственную ночь в пустыне, когда, в феврале 1989 г., я вошел в Сахару атеистом и вышел верующим.
Собственно, только здесь я и пользуюсь личным опытом. Я пишу лишь то, что необходимо моей книге. Я все еще храню для себя ту ночь под звездами, изменившую мою жизнь.
Чудеса. Я знаю, что для кого-то они очень важны. Паскаль видел в них подтверждение истинности христианства.
Тем не менее, я стремился представить Иисуса столь же далеким от них, как философ
скептик, Иисуса, который читал Ренана! Ведь Иисус не был единственным чудотворцем своего времени, эпоха научной неопределенности, когда границе между нормальным и сверхъестественным недоставало как минимум четкости, кишмя кишела целителями. Кроме того, я думаю, что идея чуда не должна засорять современную веру; за исключением Воскресения, чудеса меня не интересуют. В конце концов, сам Иисус, что неоднократно упоминается в Евангелиях, раздражался, когда его просили о чуде с целью прекращения страданий. Временами мы понимаем, что он видит в этом опасное отклонение и подчеркивает, что вера должна предшествовать чуду, а не следовать из него.
Поправка относительно вчерашнего: меня интересуют только те чудеса, которые волновали Иисуса. То есть воскрешение ребенка в Наиме и Лазаря. В этом он видел подтверждение своей судьбы.
Иуда...
Здесь будет много неожиданностей.
Хотя я не первый писатель, переосмысливающий его роль, я думаю пойти дальше, чем кто бы то ни было.
Сегодня утром я позволил себе ложь, которая меня все еще радует.
Ришар Дюкуссэ, мой издатель, позвонил мне из Франции с одним из тех молниеносных немыслимых разговоров, где беспорядочные, изящные, витиеватые, иронические предположения следуют одно за другим, сплетая насмешки и теплоту, когда уже толком не знаешь, о чем речь, но испытываешь уверенность, что испытал удовольствие поделиться.
Неумолимо, как охотник, прикидывающийся, что просто гуляет, он приближается к точке, к которой намеревался прийти еще до начала.
- Итак, эта книга?
- Закончена. Но я ее тщательно вычитываю.
- Вам не кажется, что вы грешите излишней щепетильностью? Первая версия, которую я держал в руках несколько лет назад, по-моему, уже была хороша.
- Эта будет лучше.
- Позвольте мне об этом судить. Я жду уже семь лет.
- Я тоже. Поверьте, единственное, о чем я мечтаю - это увидеть ее напечатанной.
- Когда вы планируете ее предоставить?
Нисколько не смущаясь, я на ходу сочиняю ответ:
- 28 марта, в день моего рождения.
- Очень хорошо. Пока я включаю вас в программу публикаций.
Вешая трубку, я был в восторге. На мою книгу надеются. Более того: ее выход запланирован в сентябре.
Опьяненный, я забыл то, что осознал этим вечером: моя книга не закончена, не то что не вычитана; у меня не готова даже рукопись; я начинаю чувствовать себя усталым; я уже сейчас не сомневаюсь, что не буду готов к концу марта.
Единственный способ продолжать – не думать о завтрашнем дне. Сосредоточиться на сегодняшнем.
Я отказываюсь подсчитывать, сколько мне осталось написать: каждый вечер я пишу.
Но сколько я еще выдержу?
Мне не хотелось бы признавать роль, которую популярные представления о христианстве приписывают Иуде. Как меня глубоко трогает отречение Петра, так же и Иуда, низведенный до алчного предателя, меня шокирует. Как человек, который все бросил, чтобы последовать за Иисусом, который постоянно наблюдал его духовный рост и увеличение его аудитории, как человек, избранный в число двенадцати апостолов, двенадцати приближенных, двенадцати самых дорогих, как этот влюбленный в Иисуса мог прервать его полет в самом начале? Как, и, самое главное, зачем?
Быстро нашелся ответ «За тридцать сребреников», положивший начало христианскому антисемитизму, этой чудовищной непоколебимой идее, что за горсть золота еврей готов продать все, что угодно, антисемитизму, с легкостью забывшему, что Иисус ведь тоже еврей.
Тридцать сребреников, правда? Вообще-то, Иуда и так обладал деньгами, поскольку среди тех, кто бродил по дорогам вслед за Иисусом, он выполнял функцию казначея. Так что, еще тридцать сребреников... Если это была его единственная страсть, почему он присоединился к движению, которое как раз проповедовало бедность? Кроме того, если Иуда был столь алчным, почему на следующий день он повесился? На следующий день он должен был открыть банк, а уж точно не вешаться. Его самоубийство противоречит идее предательства.
Если бы еще Иуда покончил с собой после воскрешения Христа, я бы понял, что его замучили угрызения совести… поскольку он спровоцировал смерть Мессии. Но до того? Или ему невыносимо было видеть, как его друга арестовывают и распинают – притом, что он прекрасно знал, что его донос приведет к этой ситуации? Поистине предательство, которому недостает логики.
В ХХ веке многие авторы отмечали, что вмешательство Иуды было необходимо для завершения миссии Иисуса, некоторые готовы были признать, что он сознательно берет на себя роль зла, которое должно проявить себя, чтобы добро победило.
Иуда необходим Писанию, значит, Иуда оправдан, если не прощен.
Я предлагаю пойти еще дальше: Иуда жертвует своей репутацией, потому что он и есть тот знаменитый «любимый ученик», постоянно упоминаемый и ни разу не названный, ученик, который настолько верил в мессианство Иисуса из Назарета, что готов был ради него рискнуть всем.
Так я сегодня написал Тайную Вечерю. Во время последней трапезы, которую он разделяет со своими приближенными, он внял голову рассудка. Если он хочет избежать приговора и распятия для всех учеников, если он хочет избежать коллективной казни, он должен представить себя единственным ответственным. «Кто-то должен на меня донести».
Исподволь он просит Иуду, единственного достаточно близкого и достаточно проницательного, чтобы понять, взять это на себя.
Из любви, по убеждению, из преданности Иуда соглашается.
Уверенный в мессианстве Иисуса, он играет в глазах остальных нелицеприятную роль. Сломленный, потрясенный, и в то же время довольный, он уносит свой секрет в могилу.
Таки образом, христианство основано на двух жертвах: жертве Иуды и жертве Иисуса.
Почему Иешуа, а не Иисус? Иоханан Купальщик, а на Иоанн Креститель? Зачем возвращать арамейские имена на место тех, которые стали французскими через латынь и греческий? Не только ради аутентичности. Скорее чтобы избежать штампов, слишком простых образов, запрограммированного мировоззрения. И прежде всего чтобы сделать работу романиста возможной. Если я пишу «Мария», двадцать веков предрассудков встают между моим текстом и мной; вместо этого я пишу «Мириам», и я могу остаться в романе и контролировать представление о своих персонажах.
Еще хитрее, раз я говорю об Иегуде как о любимом ученике, пресвященные читатели сходу подумают, что речь идет об Иоанне, и только потом обнаружат, думаю, с удивлением, что речь идет об Иуде…
Я закончил сегодня первую часть книги, потрясенный, что она заканчивается так стремительно и, тем не менее, так жестоко.
Собираясь в подробностях нарисовать картину последних мгновений, которые предшествуют аресту и предвосхищают крест, я на удивление, свел к минимуму подробности, сохранив лишь суть, заключив в пространство одной фразы то, что могло бы развиваться на протяжении нескольких абзацев.
Коротко. Слишком коротко. Как жизнь Христа…
Почему точность всегда появляется у меня под конец? Это достоинство или свидетельство беспомощности?
От одного предложения меня пробирает дрожь сильнее, чем от целого абзаца. Эскиз картины волнует меня больше, чем законченное описание.
Сегодня, перечитав первую часть, которую я назвал бы «Гефсиманское Евангелие», я понимаю, что хотел бы увидеть этот отрывок вживую, во плоти, в присутствии, с тишиной, тенью и кровью. Здесь все устно. Эти фразы были не написаны, а услышаны, они скорее предназначены для того, чтобы их произносили, а не читали.
Прежде чем оставить эту первую часть, я отдаю себе отчет, что в ней больше оригинальности, чем я мог подумать вначале. Глубоко свободное сознание Иисуса-человека изменило сцены и перспективы.
Две тысячи лет спорили между собой две теории: Иисус, скрывающий в себе Мессию, и Иисус, открывающий для себя Мессию; я предлагаю третью: Иисус, поспоривший, что он Мессия.
«Если я проиграю, я ничего не теряю. Если я выиграю, я получаю все. Мы получаем все». Впечатление от написания этих строк, ощущение автора самого важного для моего интеллектуального становления, моего драгоценного Паскаля, протягивающего мне руку и помогающего мне завершить, по мере моих скромных сил, мой путь веры.
До самого конца мой Иисус остается разумом сомневающимся, ограниченным разумом, который чувствует зов разума бесконечного, но который ни в чем не уверен, свет естества, который питается светом откровения, но сохраняет человеческое мышление.
«Отче, почему ты оставил меня?» Божественный свет, который ослепляет нас, порой необратимо.
Сегодня первый день в компании Пилата. Какой удар! Перейти от мягкости Иисуса к грубости Пилата, от бесконечных вопросов к безапелляционным утверждениям! Это был зверский разрыв, покинуть свет, пусть и мучительный, Иисуса, ради этого солдафонского языка. Если я и не поплачусь за этот отказ, он заставляет сожалеть.
Тем не менее, я испытал огромное удовольствие от описания Иерусалима с точки зрения Пилата. В первой части я описал его глазами Иисуса. В обоих случаях, это город чарующий и ненавистный. Обожаю воскрешать мертвые города в свежих ощущениях.
Для Пилата эскиза недостаточно. Суть не имеет смысла. В Пилате нет ничего от Иисуса, ни чистоты его помыслов, ни широты его души, ни ясности выражений. Я должен изменить насыщенность моего письма, выбрать перо побольше и потолще. Выражаясь профессиональным языком, надо бы еще «добавить красок», сгустить реализм повествования, выделить описания, удлинить диалоги.
То есть здесь я приговорен проявлять себя «большим романистом» в традиционном смысле.
Как говорят живописцы, «сюжет диктует».
Создать Пилата…
Единственный способ очеловечить этого персонажа, который с самого начала должен быть уверенным, военным, прочно стоящим на своей позиции, закованным в броню, почти неприятным, было бы выявить его слабое место: безусловная любовь, которую он испытывает к своей жене. Единственное, что удивляет этого самоуверенного мужлана, - это решение Клавдии, аристократки, связать себя с ним. Он никогда не строил иллюзий на этот счет.
В конце книги он, разумеется, отправляется скорее по следам своей исчезнувшей супруги, чем на поиски Иисуса. Поскольку единственный путь к Христу – это любовь. Таким образом, к Пилату Иисус приходит через Клавдию.
Я люблю эту Клавдию, беспокойную, надменную, чувственную, непредсказуемую и загадочную. Она повергла меня к своим ногам. Я воспламенен ею так же, как Пилат.
Как все великие личности, Клавдию с тем же успехом можно найти и возвышенной, и нелепой.
Сегодня я закончил эпизод с Саломеей.
Это будет единственная существенная вольность в моей истории: я сделаю ее первой женщиной, которая видела воскресшего Иисуса. Почему? Во-первых, я не утверждаю, что это правда: принимать всерьез нужно последующих свидетелей, а не ее. Во-вторых, я настолько обожаю этого персонажа, что не смог отказать себе в удовольствии вывести ее: когда еще, в конце концов, я буду писать роман, действие которого разворачивается в Иерусалиме в I веке нашей эры? Наконец, я надеюсь застать врасплох тех, кто хорошо знает Писание, чтобы они не устраивались со всеми удобствами уже виденного и уже слышанного.
Фабиан: путает духовное и сверхъестественное. Маленький человек нашей маленькой эпохи.
Пилат, несмотря на свою грубость и неотесанность, герой философский. Он хочет спасти рациональное, и полагается только на свой рассудок. Инстинктивно он формулирует положения, которые Декарт излагает в Трактате о методе: столкнувшись с проблемой, проверять гипотезу до тех пор, пока она не обрушиться, побежденная, опровергнутая реальностью. Так и Пилат, столкнувшись с Воскресением, принимается за процедуру логического анализа. Сначала он отрицает самую возможность воскрешения: поскольку Иисус мертв, он думает о лжесвидетелях; потом о мистификации, организованной Иродом; потом о двойнике, выдающем себя за Иисуса. Наконец, когда все первоначальные гипотезы разрушены, Пилат, вынужденный признать, что Иисус действительно вернулся, заключает, что он жив, что он никогда не умирал на кресте. Он отрицает понятие воскрешения. Посоветовавшись со своим врачом, он приходит к выводу, что Иисусу не хватило бы нескольких часов, чтобы скончаться. В то же время сомнения врача, свидетельство Клавдии, его собственное пребывание в могиле вместе и Иосифом убеждают его, что Иисус был действительно мертв.
И, когда все рациональные гипотезы исчерпаны, Пилат оказывается лицом к лицу с тайной.
Что есть тайна? Совсем не то, что проблема или вопрос.
Вопрос – это требование информации, предполагающее ответ. Пример: в каком году была опубликовании Принцесса Клевская? Ответ: в 1678.
Проблема – это вопрос, предполагающий насколько ответов. Пример: в чем смысл жизни? Есть множество ответов на эту проблему, и ни один из них не является решением, не исчерпывает проблему, ни один из них не может претендовать на большее, чем быть одним из множества ответов.
Тайна – это проблема, которая взрывает границы разумного, которая уничтожает саму возможность задавать вопросы, истощает рациональность.
Два столпа христианства – это две тайны: Воплощение и Воскресение. Они сбивают с толку: Бог, который становится человеком, возвращение к жизни после кончины! Я понимаю, почему рациональный ум отворачивается от христианства.
В годы, когда я изучал философию, я отказывался принимать в расчет эти так называемые «тайны», которые представлялись мне интеллектуальными аберрациями, противоречием терминов, настоящими «растворимыми рыбами»*. Как истинный рационалист – как истинный Пилат! – я исключил все то, что мешало моему разуму и моему представлению о разуме.
Какая робость! Какое ограниченное суждение! Как будто рассудок – единственная составляющая ума и единственное ценное, что есть в уме…
Классические философы, более мудрые и менее самонадеянные, чем мы, различали разум природный (человеческое суждение) и разум ниспосланный (речи, сообщаемые через религию), не исключая, что может существовать смысл трансцендентальный, смысл сообщающийся, смысл за пределами единственного смысла, порожденного человеческим мозгом.
Таким образом, Пилат заканчивает свое расследование на пороге тайны. В отличие от Клавдии, он еще не верит. Он остается интеллектуалом, который отказывается уступить вере. В то же время он явно изменился, так как он признает, что в истории Иисуса что-то от него ускользает… Он больше не хочет сделать понятным то, что непостижимо, он слагает оружие разума…
Возможно, однажды он поверит…
Пилат – это мы. Клавдия – это я.
Чем дальше продвигается мое произведение, тем больше я утверждаю разрыв между моим «социальным Я» и «писательским Я». Человек, которым я являюсь в обществе, демонстрирует твердость в своих убеждениях; писатель, которого я открываю, отдаваясь вымыслу, непрестанно ставит свои убеждения под вопрос и под сомнение. Если во время разговора я четко отвечаю на некоторые вопросы, все снова становится сложным, как только я берусь за перо.
Всякому, кто прямо спросит меня, верю ли я, я отвечу так же прямо: да.
Зато, когда я пишу Посетителя или сейчас этот роман об Иисусе, это снова становится проблемой. Вместо того чтобы предоставить ответ, я углубляю вопрос. В самой глубине акта написания правит произведение, и я не хочу, чтобы оно было искажено моим ответом.
Я никогда не стремился стать заразным писателем, который перекладывает свои убеждения на читателей, писателем, который поучает, наставляет, привлекает к себе учеников. Как это было бы нечестно! Получать доход с эмоциональных вложений в роман или пьесу, чтобы манипулировать интеллектом публики, значит обеднять, отрицать свою свободу. В реальности у меня столь высокие идеи о моем читателе, что я изо всех сил стараюсь его уважать; таким образом, в моем тексте кроется другое измерение, и на месте уверенности появляются сомнения.
Писательство противится самоанализу.
Кратериос, философ-циник, меня в равной степени отталкивает и забавляет. Порой мне кажется, что он слишком далеко заходит в своих пошлых провокациях, и мне не стоит за ним следовать. Я убежден, что некоторые читатели упрекнут меня в этом, и я уже вижу негодующую гримасу моего отца.
Хоть бы они поняли, что, даже если я рассказываю сакральную историю, я не хочу зацикливаться на благостных персонажах. Жизнь должна присутствовать, во плоти, со всеми своими излишествами, клокотанием, капризами, уродствами, грубостью. Я не хочу рисовать в розовом цвете. Тем более такой сюжет.
Кроме того, я апеллирую к историческим реалиям. Философское движение «собак» достигло в то время несомненного успеха. Цинизм Кратериоса, возможно, увлек бы Средиземноморье, если бы не появилось христианство...
Кто убил Иисуса?
Власть и система.
Я исхожу не из этого. Мне приходилось слышать смехотворные споры в попытке определить виноватых: или римляне, или евреи! Приведем немного в прядок эти глупости.
Первые обвиняемые: евреи! Антисемитизм, этот вирус, который с течением истории непрестанно мутировал и менял форму, осмелился, в одном из своих проявлений, выдвинуть этот аргумент в свое оправдание: евреи убили Иисуса. Но тогда мы все евреи! Если история Иисуса - это история еврея в стране евреев, то он человек, ставший жертвой своих соотечественников, не более того. Поскольку его допрашивал и приговорил Синедрион, он был схвачен, как все мистики и свободолюбцы, организацией, которая не хотела, чтобы слышали еще какой-то голос, кроме ее собственного. Любая Церковь, как христианская, так и мусульманская, в свое время преследовала инакомыслящих, изобличала еретиков, отказываясь воспринимать другие идеи, особенно если они набирали силу. Здесь мы имеем дело с классическим рефлексом защиты могущественного института от отдельной личности, а не с чем-то специфически еврейским.
Вторые обвиняемые: римляне! Пилат, при таком раскладе, веками преподносится «палачом Христа». За этим обвинением чувствуется вздох облегчения Европы наконец-то христианской, которая ликует, оставив мир римский, а значит языческий, в античности. Я далек от того, чтобы реабилитировать этого персонажа, о котором немного известно: я пользуюсь им в той же степени, что он пользуется мной. Пилат реагирует как политик, как прагматик, обеспокоенный тем, чтобы избежать беспорядка, сохранить отношения с союзниками, которых он контролирует, в первую очередь с первосвященником. Он ведет себя не как римлянин, а как оккупант.
Друге суждение представляется мне незнанием прошлого, помноженным на дурные намерения в настоящем.
Тайна - это нечто, постоянно подающее повод к размышлению.
Сегодня 28 марта, день моего рождения, разносчики сменяют друг друга у моей двери: я завален букетами, как в день премьеры. Мой кабинет, где красуются тюльпаны, распускается сирень и томятся лилии, больше походит на гримерную артиста, чем на рабочее место писателя.
Чувство, что ты немного любим.
Среди всех этих цветов, которые происходят из Голландии, но которые мне присылают из Франции, меня особенно трогает огромная охапка роз. Мой издатель Ришар Дюкуссэ вспомнил обо мне.
Меня всегда волновал первый букет, который я получаю от человека. Краснея, немного волнуясь, с колотящимся сердцем, я звоню, чтобы его поблагодарить. Изысканная болтовня, беспорядочная и бессмысленная, мы жужжим как два шмеля в глубине сада. Потом переходим к сути:
- А ваша книга?
- Мне еще нужно ее перечитать.
- Вы ее уже семь лет перечитываете. Что происходит?
Я приукрашаю, я преуменьшаю, я выдумываю. Не в силах признать, что книгу у меня украли, боясь, что он не поверит, что я способен в конце концов восстановить ее, я убеждаю его, что это дело еще двух или трех недель.
Это мне позволит сказать то же самое через две или три недели...
На данный момент, никто еще ничего не читал.
Брюно М. наблюдает за моей работой со смешанным чувством. С одной стороны, он меня горячо поддерживает, поскольку он хочет отвадить меня от театра, прекрасно зная, что я не могу всего сказать на сцене. С другой, он, несомненно, предпочел бы, чтобы я писал другой роман.
Он принадлежит к людям, достаточно нечувствительным к вопросам веры и менее всего мучимым метафизикой... Я думаю, он терпит эту книгу в ожидании последующих.
Эта работа грозит превратить меня в романиста. Со времен моего первого романа, Секты эгоистов, который так и остался фарсом, скорее иронической философской сказкой, чем романом в традиционном смысле, я посвятил себя театру, без всяких сомнений относительно спонтанной формы выражения.
Откуда взялись эти комплексы, которые тянули меня назад все семь лет работы над романом?
В прозе такого рода мне трубно писать «четко». Не считая признанных историей шедевров, большая часть романов, которые попадали мне в руки, показалась мне беспринципной. Почему тот пишет четыреста страниц, в то время как сюжет и вдохновение, которое он дает автору, не заслуживает и двадцати? И почему этот предлагает всего лишь сто страниц, когда необходимо триста? У меня такое впечатление, что многие романисты (или притворяющиеся таковыми) не умеют регулировать ритмы своего письма: они не дают ни точного времени, ни точного содержания, необходимого их тексту. Если столь многие ошиблись, почему я должен избежать этого вселенского заблуждения?
Затем, я знаю, что я пишу только то, что слышу. Фразы слышатся мне со своими контурами, своим ритмом, своим дыханием, часто очень короткие, иногда более пространные, в зависимости от того, что они выражают и от их места в эпизоде, в абзаце. Кабинет, который Флобер называл своим «горлуаром», потому что он там выкрикивал свои тексты громким голосом, чтобы выверить их равновесие, мне надо бы называть «слухуаром», потому что я там прислушиваюсь к своему воображению. Устный писатель, произносящий свои тексты про себя, я считаю себя вправе предназначить их для сцены, где актеры вернут им голос. Напротив, мысль, что их будут читать в тишине спальни или в гомоне гостиной меня пугает: услышат ли их?
Одна нога в мистике, другая в рассудке.
Я редко читаю детективы, но читаю с большим увлечением: что-то от них осталось в моей книге. Так, мой Пилат ведет расследование, как американский частный детектив. В то же время, я играю со структурой детектива, но не следую ей. Детектив ставит вопрос, ответ на который существует, и, соответственно, заканчивается окончательным и определенным ответом. Евангелие от Пилата заканчивается не разгадкой тайны, а ее углублением.
Анти-детектив, в некотором роде…
Книга закончена. Я написал последнюю фразу, ту, которую знал еще до первой, с которой у меня уже несколько месяцев назначено свидание.
Завтра отправлюсь гулять на несколько часов. Нужно снова вдохнуть жизнь в тело, которое, когда я пишу, мне только за этим и нужно.
Брюно М. читает текст раньше всех.
Несмотря на то, что он всячески выражает восторг, я не знаю, нравится ли ему на самом деле.
На мой взгляд, он и сам этого не знает. Этот тяжкий груз, ответственность быть первым читателем, доводит до того, что начинаешь сомневаться в собственных суждениях.
Мои друзья Серж С. и Натали М. встречают роман с энтузиазмом. Они говорят мне такие прекрасные вещи, что у меня вдруг возникает впечатление, что жизнь удалась.
Спасибо.
Хочу вернуться к последним фразам книги: «Сегодня утром я сказал Клавдии, которая, представь только, считает себя христианкой, что будет только одно поколение христиан: то, которое видело воскресшего Иешуа. Эта вера угаснет вместе с ними, в первом поколении, когда закроют глаза последнего старика, который хранил в памяти лицо и голос живого Иешуа.
- Вот поэтому я никогда не стану христианином, Клавдия. Потому что я ничего не видел, я все пропустил, я пришел слишком поздно. Если бы я захотел поверить, мне пришлось бы сначала поверить свидетельствам других.
- Так может быть ты и есть первый христианин».
Такова жестокость христианства: после исчезновения Христа Откровение заканчивается.
Он и есть Откровение. В дальнейшем оно больше не проявит себя напрямую. Оно предполагает посредничество текстов, людей, которые их пишут, переписывают, переводят, комментируют. Христианство требует двойного доверия: веры в Бога и доверия человеку.
Считающий себя умнее и хитрее тех, кто ему предшествовал, не может стать христианином. Боюсь, как бы наша нарциссическая эпоха, которая тщеславно считает, что стоит больше всех предыдущих, не оказалась неблагоприятной для передачи послания. Без определенного смирения, без внимания к свидетельствам, без минимального уважения к верованиям прошлого нельзя понять Иисуса.
Христианству нужны наши жизни, чтобы жить, наша память, чтобы помнить.
Это общий и постоянно возобновляемый труд.
Драма в Альбэн Мишель.
Кажется, часть литературных консультантов сожалеет, что я не удовлетворился второй частью книги, той, где речь о Пилате. Я яростно оспариваю это замечание и впервые за время нашего знакомства обрушиваю свою ярость на Ришара Дюкуссэ. Хотя он тут же убеждает меня, что разделяет мое мнение, уже слишком поздно. Меня уже не остановить. Я ругаюсь без остановки. Я не опубликую эту книгу без обеих частей! Я отказываюсь! Это же смешно! Две загадки христианства – это Воплощение и Воскресение, то есть мои две части! Лучше сдохнуть и перестать писать! И вот, посреди “Closerie des lilas”*, у меня горят виски, вены на шее чуть не лопаются, я ощущаю себя на той ступени отчаяния, когда хочется свалиться на месте с сердечным приступом. Разумеется, я отдаю себе отчет, что устраиваю сцену, которую можно расценить как «истерическую», но вот, я уже не могу остановиться. Я прекращаю только потому, что, как всегда в тех редких случаях, когда я прихожу в ярость, мне отказывает голос, и вот, я окончательно охрип. Ришар Дюкоссэ использует эту возможность, чтобы меня успокоить и главным образом чтобы отвести меня домой.
Вечером мне становится стыдно перед ним, что я заставил его пережить такой неприятный момент, хотя в глубине души я по-прежнему считаю, что прав.
А потом, как смириться с тем, что читатели, которые думали об этом, только когда заполняли личную карточку, могут переосмыслить работу, над которой я сам думаю десять лет…
Эта книга доставила мне чудесное знакомство: с Пьером С. из Альбэн Мишель. Пожалуй, я бы его переименовал в «неожиданное»: я уж было решил, невозможно в современном издательство встретить человека, который читал что-то, кроме опубликованного в последние тридцать лет. Пьер С. читал Бернано, Мориака, Морана, Жида, Грина, классиков как нашего, так и предыдущих веков. С ним я могу говорить о Расине и Шекспире. Если я напеваю арию Моцарта, он подхватывает.
Я попросил, чтобы он был назначен моим литературным директором.
Пьер С. перечитывает мой текст и вылавливает то, что могло сохранить, помимо моей воли, слишком благостные образы, слишком пасторальные выражения, то, что могло бы напомнить о христианской вере как она обыкновенно преподносится.
Не знаю, поступает ли он так, потому что не разделяет этой веры, или потому что понял, чем должна быть эта книга. Без сомнения второй вариант.
Гранки вернулись из типографии.
Как всегда, точно и быстро, моя кузина Кристин, самая грозная охотница за ошибками в мире, помогла мне внести исправления.
Теперь надо только переждать лето в ожидании выхода книги.
В любом случае, ни на что другое я не годен, потому что устал, как женщина после родов.
Свои первые споры о Боге я вел с отцом. По этой причине я решил посвятить ему свою книгу.
Сколько мне было? Семь лет, восемь?.. Хотя я смутно помню это, он дал меня почувствовать, что наша жизнь разворачивается в окружении глубокой тайны. Думаю, он скорее задавал себе вопросы в моем присутствии, чем отвечал мне.
Если он и не сказал мне этого открытым текстом в детстве, позже я понял, что он не верил в Бога и держал христианство на расстоянии, испытывая к нему смесь уважения и недоверия. Его антихристианство было подлинным, но его атеизм оставался беспокойным, напряженным, мучительным: он хотел бы иметь веру. И именно потому, что он желает верить, он презирает это желание. Порочный круг и движение по спирали: само его желание вселяет в него подозрения относительно объекта этого желания.
Не верить ему было тем мучительнее, что его мать Мари, моя дорогая эльзасская бабушка, была глубоко верующей католичкой, истово соблюдающей религиозные обряды, которая, кротко и упорно, единственная из всего семейства Шмиттов ходила в церковь по воскресеньям. Мой отец, должно быть, чувствовал себя виноватым, воображая, что она страдала, хотя никогда и слова не сказала, от того, что не передала свою веру своим четверым детям. Но как переходит вера? Никто не знает. Он не более виноват в том, что не воспринял ее, чем она в том, что ее не передала.
Моя очередь передать ему мои вопросы, мои надежды, мои волнения. Я переверну обычную ситуацию передачи: верующий сын направляет веру своему неверующему отцу.
Мой отец со страстью проглотил мои две части. Как и ожидалось, он никак не комментирует посвящение: для этого он слишком скромен.
Тем не менее моя мать признается, что он целыми днями читает и перечитывает страницы, разбросанные по его кровати.
Сегодня утором я осознал, что меня зовут Эмманюэль, что означает «С нами Бог» на иврите. Не говорит ли Матфей, что ребенка Марии должны звать Еммануил? (Матфей 1:23)? Странно писать новые евангелия, правда?
Еще более странны обстоятельства, при которых мне было дано это имя. Пока я был в утробе матери, мои родители предполагали назвать меня Эриком. Когда я появился, им вдруг показалось, что Эрика недостаточно, что Эрик Шмитт звучит неправильно, недостаточно тепло и отсылает к другой внешности, нежели моя, и вот, когда на столе, окруженный акушерками, я впервые взглянул на этот мир, они изобрели это невероятное имя, которое я больше ни у кого не встречал: Эрик-Эмманюэль.
Отдавали ли они себе отчет в том, что делали?
Остался ли смысл этого имени для них тайной, или они держали его в голове? Не знаю. Я полагаю, что в них заговорил язык подсознания, подсознания, обладающего большим словарным запасом, чем мы, подсознания виртуозного в вопросах полисемии, которое сумело предложить слово, звук которого, по неизвестным причинам, показался правильным.
Лица некоторых, когда они понимают, что я, в некотором роде, христианин: катастрофические физиономии, осунувшиеся мины. Я их разочаровал. Я упал в их глазах.
Меня это забавляет.
Несколько гримас – это не львы, пожирающие христиан в древних цирках.
Если наш век и знал великий прогресс, то это прогресс незначительности.
Сегодня книга поступила в продажу. Что не означает, что кто-то ее купит.
Ее покупают. Мой издатель удивлен. Менее, чем я.
Счастье знать, что книга хорошо принята и нашла множество читателей. Счастье чудесных встреч в чудесных полных залах.
До публикации этой книги мне представлялось, что я единственный писатель, сталкивающийся с такого рода проблемами: взвесить христианство, оценить его вклад, его интерес, его тайну. Теперь, в процессе «литературного возвращения», выражение, где оба термина, вне всякого сомнения, узурпированы, это ощущение подтверждается. Вопреки моей подруге Амели Нотомб, которая принимает книгу с большим уважением и красноречивыми похвалами, я, несмотря на положительные отзывы критиков, чувствую себя гадким утенком.
Когда я признаюсь, что верю, некоторые смотрят на меня так, будто я сказал что-то в высшей степени непристойное. Или неуместное. Я превращаюсь в кретина или в человека-невидимку. В любом случае, это признание их мгновенно убеждает, что я непременно плохой романист и самозваный философ…
Взамен я делю этот поиск, это беспокойство разума с множеством читателей, верующих или нет, и чувство одиночества покидает меня. Атеисты и христиане реагируют с силой и интересом. Читатели не столь метафизически настроенные последовали за мной из чистого любопытства.
В конце концов, каждый идет своим путем и по-настоящему не встречается ни с кем, кроме бредущего той же тропинкой…
Пресса хорошая. Многие мне аплодировали, двое или трое растерзали, остальные удачно прошли мимо. Меня ничего по-настоящему не задевает. Я чувствую себя как оправившийся от болезни, который слышит вокруг неясные голоса и различает колышущиеся тени: чуть живой посреди ускользающего мира.
Некто очень сердитый и очень красный негодует, как можно посреди XXI века все еще спрашивать себя, существовал ли Иисус и был ли он Сыном Божьим. Чушь, - восклицает он. С точки зрения этого крайне самоуверенного человека, глупо уже задавать такой вопрос.
Я молчу. Я не отвечаю, боясь его задеть.
Он считает себя умным, в то время как только что доказал нам свою тупость.
Он воображает себя современным, прогрессивным, в то время как он пышет нетерпимостью, впадает в опасный, как любой другой фундаментализм, фундаментализм атеистический, фанатическую доктрину тех, кто мнит себя выше других, не щадя никого и ничего.
С его точки зрения, все верующие - слабоумные. А он, ни во что не верящий, живет истиной. Ему не приходила в голову мысль, что он довольствуется противопоставлением одного убеждения другому, одной веры другой вере.
Единственное умное и честное отношение к вопросу о существовании Бога или Христа состоит в том, чтобы сказать «Я не знаю».
Сказать «Я верю» не значит сказать «Я знаю».
Сказать «Я не верю» тоже не значит «Я знаю, что это не так». С точки зрения истины, неверие во что-то не сообщает дополнительных достоинств.
Будем скромны в оценках. Вера атеистическая или вера христианская - все равно вера. Ни в коем случае не наука. И то, и другое заслуживает уважения, как и любое убеждение.
Мой собеседник с пунцовым от ярости лицом отвечает столь рьяно на вопросы, которых он себе даже не задавал.
Пусть сначала задаст.
А потом, ответ не имеет значения. Важен вопрос.
Вопрос нас объединяет, ответы - разделяют.
Гуманизм должен быть вопросительным, под угрозой того, чтобы вообще перестать существовать.
С юности меня преследует образ: я вижу себя, облаченного в длинные черные одежды, в ослепительной белизны монастырской келье, смотрящим на чистый свет дня, наполняющий меня счастьем. Всегда это монашеская мечта. Она овладела мной даже прежде, чем я обрел веру.
Что это - галлюцинация или предчувствие? Нахожусь ли я во власти смутного желания или предвижу свою судьбу? Поживем - увидим. И все же, если я осуществлю эту мечту, будет это проявлением моей свободы или моей судьбы?
Порой я подозреваю, что этот образ выражает лишь усталость от жизни и борьбы. А в другие минуты мне представляется, что это и есть ключ к моей жизни, к ожидающему меня счастью...
Вопреки тому, что я говорил несколько недель назад, чем дальше, тем менее исключительным я себя чувствую. Я ощущаю себя звеном огромной цепи, состоящей из художников, которые на протяжении многих веков представляли Страсти. Как живописец, скульптор, композитор, где-то между церковным маляром и Рембрандтом, безымянным портным и Микеланджело, воскресным органистом и Моцартом, я разрабатываю мотив на свой лад.
Мой роман, мне кажется, занимает заслуженное место в этой истории. Защищенный жанром, защищенный признанием вымышленности, я не ошарашиваю читателя, заявляя ему «Это правда», лишь «Это правдоподобно».
Я не кричу, «Вот ИСТИНА», лишь «Вот мои предположения». Мои мысли предстают в форме лжи: вымысел. Только у вымысла, возможно, есть сила сказать то, что здесь необходимо сказать.
Разумеется, «роман» означает субъективное, вымышленное, но это не означает ни нереальное, ни лишенное смысла. Есть реалии, которые не могут быть переданы другим языком. Я спрашиваю себя, а что если определенные истины невыразимы кроме как в форме историй, романов, сказок...
Пятое евангелие?
Да, я написал свое евангелие, двойное евангелие, от Иешуа и от Пилата. Но не проделали ли мы все, даже не взявшись за перо, такую же работу? Поневоле, заваленные информацией, текстами, образами, мы пересказывали историю, выделяя какую-то черту, предпочитая какую-то сцену, упуская какую-то деталь. Все вместе, с музыкой, картинами, текстами, фильмами, мы создали себе пятое евангелие.
Я вспоминаю ночь, из которой вышла эта книга. Речь не столько о моей ночи в пустыне, сколько о другой, несколькими годами позже.
В тот вечер, впервые в жизни, я прочел Евангелия. Все четыре. Подряд. Не отрываясь. В том порядке, в каком они опубликованы.
Ночь льда и огня. Противоречивые чувства. Я открывал Христа, ярость любви, безумную, бессмысленную великодушную траекторию, по которой он следовал, от покрытого тайной детства к публичной агонии. В ту самую ночь я начал верить в Христа и не верить в него. Я непрестанно сомневался.
Несовпадение четырех текстов, их очень разное качество, даже их противоречия одновременно взволновали и околдовали меня. С точки зрения судебного процесса, припомнил я, тот факт, что тексты не согласуются между собой, доказывает, как правило, искренность свидетелей. Только лжесвидетели рассказывают в точности ту же историю. Точно так же в психиатрии известно, что пациент, ставший жертвой насилия, никогда не будет рассказывать об акте агрессии одинаково, в то время как лжец повторит все слово в слово. Короче, трудности, которые доставили мне несовпадающие тексты Евангелий, побудили меня им поверить.
С того вечера я стал одержим фигурой Христа. Несколько лет спустя я решил назвать эту одержимость моим христианством.
Есть слова, которые обжигают. Чтобы написать «Я, Иешуа из Назарета», мне потребовались годы размышлений, прежде чем рискнуть преступить эту черту. Для атеиста это не составило бы проблемы; для еврея или мусульманина – несколько легко преодолимых сомнений; в христианина перспектива говорить от имени того, кого он считает Господом всемогущим, вселяет ужас, потому что граничит со святотатством.
Без сомнения именно поэтому я постоянно отказывался, откладывал эту работу. Не из страха перед романом. Но из страха перед этим романом.
Несколько раз друзья, которым я признался, что «Евангелие от Пилата» было украдено у меня за несколько месяцев до появления в печати, спрашивали меня, считаю ли я, что новая версия лучше. Я искренне отвечал, что надеюсь, но никогда этого не узнаю.
Сегодня я мог бы получить ответ.
Пока я снимаю гирлянды и шарики с рождественской елки, дети, Сибиль и Кэнтен, пользуются этим долгим моментом, проведенным за смехом и болтовней, чтобы расспросить меня о секретах моего секретера с инкрустацией голландской работы, датирующегося XVIII веком. Не в силах больше противостоять их любопытству, я подвожу их к секретеру и привожу в действие пружины тайника.
Ящик выскакивает, и я с удивлением обнаруживаю, что в нем что-то лежит. Я вытаскиваю предмет: это оказывается дискета с этикеткой «Евангелие от Пилата, первая и вторая часть».
Ошарашенный, я вынужден сесть. Итак, роман, который я считал безвозвратно потерянным, роман, который я переписал, растратив нервы и здоровье, роман, который отныне продолжит свою карьеру в книжных магазинах, этот украденный роман месяцами ждал меня в единственном месте, где он мог быть.
Дети смеются. Но не я. Я обливаюсь потом. Я злюсь на себя. Я обвиняю себя в том, что оказался достаточно безголовым, чтобы переписывать книгу, не заглянув в этот потайной ящик.
Сибиль и Кэнтен разбегаются по дому, чтобы поведать всем новость. Полагаю, что мой обескураженный вид сам по себе должен быть весьма забавен.
Брюно М. приезжает, с трудом сдерживает смех при виде моей бледности, потом пытается придумать что-нибудь позитивное:
- Вот и хорошо. Ты сможешь сравнить две версии, теперь… Узнаешь, какая лучше…
Я поднимаю голову, пристально смотрю на него и бормочу:
- Никогда!
Я направляюсь к камину и швыряю в огонь дискету, которая сначала сопротивляется, потом корчится от боли, трещит, чернеет, воняет и в конце концов исчезает под развалившимися поленьями.